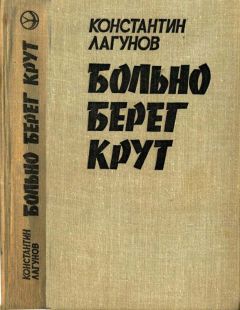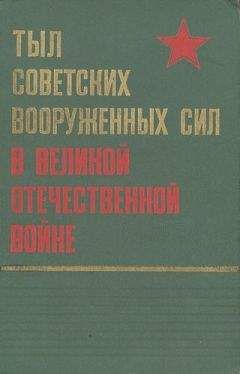Константин Лагунов - Так было
Погода, будто покоренная зрелищем буйного, как атака, труда, вдруг обмякла. И всю неделю аккуратно, как на службу, выходило солнышко. И ветер дул умеренный и сухой. И намолоченное зерно хорошо подсыхало.
В редкие минуты передышки, когда комбайнер что-то подкручивал и смазывал, все, словно по команде, садились передохнуть.
И тут же слышался голос Настасьи Федоровны:
— Девки! Где вы? Что притихли-приуныли? Запевай!
И сама хрипловатым от усталости и поэтому особенно волнующим голосом заводила любимую песню:
Ой, летят утки. Летят утки
И два гуся…
Ей подпевали все.
Полина Михайловна полюбила эту песню. И пела ее вместе со всеми. Пела и дивилась, что простые, бесхитростные слова несут в себе такой глубокий смысл.
Шли седьмые сутки фронтового субботника.
К вечеру погода начала портиться. Похолодало. Небо почернело от туч. Посыпал дождик, сильней и сильней. Скоро он превратился в мокрый снег.
Ускова с Федотовой сидели в одной телеге, укутавшись куском брезента, тесно прижавшись друг к другу. Сильной рукой Настасья Федоровна обняла Полину Михайловну и весело говорила ей:
— Вот, товарищ секретарь, можем рапортовать. Хлеб убран. Недомолоченный лежит в скирдах, и никакой дождь ему не страшен. Да там и хлеба-то всего ничего. А то, что намолотили, кроме семян, вывезли. Правда, план не вытянули. Но это не наша вина, наша беда. Землю годуем плохо. Она все меньше родит, а планы растут. Недоимка тоже. Вот тут и развернись. Главное, с уборкой сладили. А сейчас попаримся в баньке, напьемся морковного чаю с топленым молоком и — спать.
Вся деревня спала в эту ночь мертвым сном. Только сторожа дремали вполглаза. И когда в полночь в правлении зазвонил телефон, семидесятилетняя бабка Демьяниха сразу подскочила к аппарату.
— Слушаю, — прогнусавила она в трубку.
— Колхоз «Коммунизм»? — зазвенел над ухом сильный голос.
— Ага… Чего надрываешься? Не глухие.
— Федотову, — приказал голос.
— Нету ее, — откликнулась бабка.
— Ускову, председателя вашего.
— И ее нету.
— Сходите за ними и пригласите сейчас же к телефону. Это Рыбаков говорит.
— А мне все одно, кто говорит. Хоть сам Исус Христос. Не пойду я за ними. Спят они.
— Да ты чего, старуха, спятила? — загремел рассерженный баритон.
— Сам ты, батюшка, спятил. Люди неделю не спамши. Только прилегли. Завтра придут, тогда и звони. Спи-ко и сам. Тоже, поди, намаялся. Спи, касатик.
Рыбаков замолчал. Старуха подождала, не откликнется ли он. Повесила трубку и улеглась на лавку.
Утром она передала Усковой ночной разговор с Рыбаковым.
— Откуда он звонил? — спросила Настасья Федоровна.
— Господь его знает. — Старуха зевнула. — Да ты не убивайся. Он ишо позвонит.
И он позвонил. Трубку взяла Федотова. Она сразу узнала голос Василия Ивановича.
— Где ты запропала? — спросил он. — Раз десять тебе звонил. Как в воду канула.
— Заработалась, — виновато ответила Федотова. — Такой субботник был. Прямо штурмовая неделя. Увлеклась. Стосковались руки по работе…
— Это хорошо. Каков же итог вашего штурма?
Федотова назвала цифры уборки, обмолота, сдачи.
— Молодцы! — похвалил он. — Остальные колхозы твоей зоны тоже здорово подтянулись. А вот в «Новой жизни» беда.
— Что там? — встревожилась Федотова.
— Сваленный хлеб не заскирдован. Да и убран-то еще не весь. Пойдет под снег к чертовой матери.
— Шамов там?
— Заболел. Лежит дома.
— Ясно, — уныло проговорила она. — Сегодня выеду туда.
— Давай. Может, еще кого-нибудь подкинуть на прорыв?
— Обойдемся.
— Ладно. Двадцать девятого бюро.
— Знаю.
— Бывай.
— До свидания…
— Дай трубку Усковой. — Услышав ее «да», Василий Иванович глухо проговорил: — Молодец, Настасья Федоровна. Спасибо. К концу недели заскочу. Бывай.
— Василий Иванович! — крикнула она в умолкшую трубку. — Василий… — и осеклась.
7.Федотова откинулась на спинку стула. Ей нездоровилось. Знобило. Широкое лицо осунулось. Темные полукружия залегли под глазами, запали щеки. Коротко остриженные светлые волосы висели сосульками. Иногда по телу прокатывалась горячая волна, и тогда лоб покрывался испариной. Но уже через минуту зябкая дрожь сотрясала тело. Видимо, простудилась.
По пути в «Новую жизнь» она заехала в контору МТС обсушиться, согреться, сменить лошадь. Заехала на часок, а застряла на полдня. Пока разговаривала с директором МТС, пришел завуч местной школы, потом пожаловал председатель сельпо, следом — директор детского интерната. У всех были к ней неотложные дела. Вот и просидели почти до вечера. Погода совсем испортилась. И самочувствие — никудышное. Сейчас бы напиться вдоволь крепкого морковного чаю да на горячую русскую печь. Испытанное средство от простуды. Но — увы. Пока не до себя.
Полина Михайловна с трудом поднялась на ноги, подошла к окну. Настоящая метель. Снег мокрый, крупный. Целыми лепехами валит на жидкую грязь. «В такую погоду добрый хозяин собаку не выгонит: пожалеет. А мне тащиться еще шестнадцать километров. Шамов вовремя заболел. Он все ухитряется делать вовремя. Хотя здоровье-то у него, видно, не очень. Лицо желтое, кашляет. Да только совсем здорового-то сейчас здесь и не найдешь». Вспомнила последний разговор с Шамовым. Поморщилась. «Не мытьем так катаньем»… Хорошо, что взяла у Бобылева полушубок… Не хотелось ни двигаться, ни думать. Превозмогая себя, оделась и, сутулясь, вышла на улицу.
Полчаса спустя она уже выехала из села. Густая, белая от снега грязь противно хлюпала под копытами, налипала на колеса. Лошадь еле тащилась. А снег валил все гуще и гуще. Скоро все вокруг стало белым — и деревья, и дорога, и поля. Полина Михайловна почувствовала мелкую, липкую дрожь в теле. Подняла воротник полушубка, закутала ноги фуфайкой. Прикрикнула на лошадь, несколько раз стегнула ее вожжами. Та вздрагивала, крутила головой, но шагу не прибавляла. Федотова привязала вожжи к облучку, засунула руки в рукава полушубка, свернулась клубочком и впала в полудрему.
К вечеру она приехала в «Новую жизнь». Остановилась у Новожиловой. Гостеприимная хозяйка истопила баню, напоила гостью чаем с медом и уложила спать на печку. Утром Федотова почувствовала себя здоровой.
Положение в колхозе создалось чрезвычайное. Хлеб был почти весь скошен, но не обмолочен и даже не заскирдован. На пятидесяти гектарах пшеница осталась неподобранной после жаток, на ста — лежала в суслонах, а одно большое поле, гектаров на тридцать, все еще было не убрано.