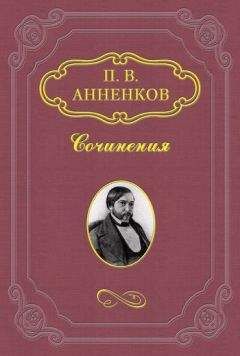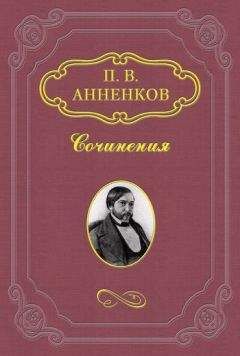Павел Анненков - Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта
С первого взгляда может показаться странным сожаление об отсутствии таких явлений, которые в условиях древнего нашего быта и существовать не могли; но ключ для объяснения этого требования находится в практическом смысле Пушкина. Он весьма любит сличения и поверки одного предмета с другим. Таким путем старался он достигнуть ясных выводов, избегая, сколь возможно, системы отвлеченного толкования посредством идеи, случайно явившейся или заготовленной прежде. Мы имеем еще один пример его расположения к аналогическому способу исследований, о котором скоро будем говорить, а теперь продолжаем наши выписки:
3) «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль: при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы.
Петр I не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, не поладил с Татищевым за его легкомыслие, угадал в бедном школьнике вечного труженика Тредьяковского. Сын молдавского господаря воспитывался в его походах, а сын холмогорского рыбака, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасского училища.
В начале XVIII столетия французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долгое, решительное влияние. И так, прежде всего, надлежит нам ее исследовать».
Отсюда начинается у Пушкина цепь коротких и сильно перемаранных заметок, которые, видимо, составляют только программу будущего труда, первые вехи, показывающие уже определенное направление пути, но не составляющие еще самый путь.
4) «Когда в XII столетии, под небом полуденной Франции, отозвалась рифма в прованском наречии — ухо ей обрадовалось: трубадуры стали играть ею, придумывать для нее всевозможные изменения стихов, окружили ее самыми затруднительными формами. Таким образом изобретены рондо, вирле, баллада и триолет. (Балладой называлось небольшое стихотворение, в коем рифма сочеталась известным образом и которое начиналось и оканчивалось теми же словами.)»
5) «Рассматривая бесчисленное множество мелких стихотворений, коими наводнена была Франция в конце XVI столетия, нельзя не сознаться в бесплодной ничтожности сего мнимого изобилия. Трудность, искусно побежденная, счастливо подобранное повторение (refrain), легкость оборота, простодушная шутка, искреннее изречение редко вознаграждают усталого исследователя».
6) «Труверы обратились к новым источникам вдохновения: аллегория сделалась любимою формою вымысла. Церковные празднества и темные предания о древней трагедии породили мистерии. Явились лэ, роман, фаблио».
7) «Романтическая поэзия, коей изобразили мы смиренное рождение, пышно и величественно расцветала во всей Европе. Италия имела свою тройственную поэму, португальцы — «Луизиаду», Испания — Лопе де Вега, Кальдерона, Сервантеса, Англия — Шекспира, а у французов Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и почитался народным поэтом. Наследник его Марот, живший в одно время с Ариостом и Камоэнсом, rima de triolets, fit fleurir la ballade»[180].
8) «Проза имела решительный перевес: скептик Монтань, циник Рабле были современники Тассу».
9) «Люди, одаренные талантами, будучи поражены ничтожностью французского стихотворства, думали, что скудость языка была тому виною, и стали стараться пересоздать его по образцу древнего греческого. Образовалась новая школа, коей мнения, цель и усилия напоминают школу наших славянорусов, между коими также были люди с дарованиями. Но труды Ронсара, Жоделя и Дюбелле остались тщетными. Язык отказался от исправления, ему чуждого, и пошел опять своей дорогой. Наконец пришел Малерб, с такой строгой справедливостию оцененный великим критиком Буало:
Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence … etc.[181]
Но Малерб ныне забыт подобно Ронсару. Сии два таланта истощили силы свои в борении с механизмом языка, в усовершенствовании стиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его, не зависящей от употребления!»
10) «Каким чудом посереди общего падения вкуса вдруг явилась толпа истинно великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века! Политическая ли щедрость кардинала Ришелье, покровительство ли Людовика XIV причиною такого феномена или каждому народу предназначена судьбою эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, блестит и исчезает. Как бы то ни было, вслед за толпой бездарных или несчастных, стихотворцев, заключающих период старинной французской поэзии, тотчас выступают Корнель, Буало, Расин, Мольер и Лафонтен. И владычество их над умами просвещенного мира гораздо легче может объясниться, нежели их неожиданное пришествие!»
11) «У других европейских народов поэзия существовала прежде появления гениев, одаривших человечество своими созданиями. Сии гении шли по дороге уже проложенной, но возвышенные умы XVII столетия застали у французов народную поэзию в пеленках, справедливо презрели ее бессилие и обратились к образцам классической древности. Буало — поэт, одаренный мощным талантом, резким умом, — обнародовал свое уложение, и словесность ему покорилась. Старый Корнель один остался представителем романтической трагедии, которую так славно вывел он на французскую сцену».
12) «Между тем великий век миновался. Новые мысли, новое направление отзывалось в умах, алкавших новизны. Пренебрегая цветы и благородные игры воображения, словесность…»
Здесь прекращаются отрывки. Позднее мы увидим, что Пушкин называл французов народом антипоэтическим, оставляя за ними только качество положительного народа. Особенно к новым поэтам их не имел он никакого расположения, но для писателей Франции XVII столетия было у него исключение. Его уважение к Расину и Буало, которые так мало имели сходного с собственным его направлением и в творчестве, и в критике, свидетельствует уже это достаточным образом. Легкомысленное презрение к этим людям было у нас тогда в общем ходу; но Пушкин и здесь сохранил основную черту характера своего — не останавливаться на крайностях и не подчиняться определениям исключительным и потому неверным, которую он только покидал в минуты своих порывов… Кстати сказать, что программы, о которых так часто упоминаем здесь, служили Пушкину не только указателями для разного рода трудов, но он прибегал к ним даже для направления своих чтений. Один такой образчик мы имеем в следующей записке: