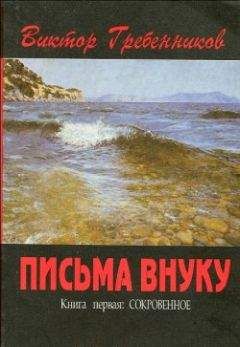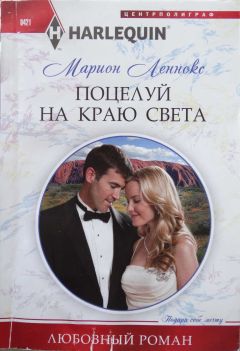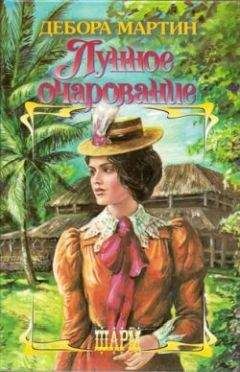Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.
Письмо шестьдесят пятое:
ЕЩЁ О ДРУЗЬЯХ
I. Достойнейшим же лучшим школьным другом моим по сказанному Исилькулю был и остаётся (он сейчас в Москве, я о том кратко писал) Костя Бугаев. До самых последних лет, когда из-за невероятнейшей дороговизны дальние поездки стали недоступными даже для работающего, мы съезжались превесьма часто, и, уйдя куда-нибудь на природу, разводили этакий крохотный костерок, дым от коего был слаще ладана, ибо сразу уносил нас обоих в страну далёкой, суровой и трагичной, но романтической Юности, и мы предавались этим ностальгическим воспоминаниям, конечно же, приняв, по тогдашней нашей исилькульской давней традиции, по походной рюмочке. А вспомнить у нас было что. Эти вот письма — лишь малая часть прожитого и пережитого; кроме того, есть вещи, никому, кроме двух друзей, не интересные и не понятные, а книга эта, рассчитанная на всех, уже вон как распухла. С Костей мы почти ровесники: я родился в апреле 1927-го, он — в мае. Домишко, в коем жил он, и сейчас стоит на исилькульской улице Щукина; я бывал у них весьма часто, а то и каждый день, ибо мы предпочитали делать уроки вместе; где-то раньше я уже писал тебе о том, как мы неделями браво изъяснялись только по-немецки, стараясь таким образом улучшить свои лингвистические знания. А вообще-то, как я сейчас про себя думаю, прибиваться хоть к чьим-то, пусть чужим, но семейным домашним очагам, какового очага у нас дома, по сути дела, не было, стало для меня не только отдыхом и переменой обстановки, но и необходимостью. Что я видел дома? Перебранки родителей, доходящие до скандалов и истерик, пропитавшую всё грязь слесарной мастерской, отцовское осточертевшее «меню», на каковое в голодное время грех было роптать, но мать по-прежнему, как и в Симферополе, он до керосинки с кастрюлей (плиты в мастерской не было) не допускал, да она и сама к таковой работе не стремилась, так и не научившись готовить что-нибудь даже очень простое; я тоже к кухонному искусству не был охоч (да и сейчас, как ты знаешь, не испытываю к таковому тяги), и мы питались дома только тем, что сварит отец; а готовил он пищу хоть и охотно, но почему-то крайне невкусно; в тех его супах, или заработанной нами подмороженной картошке, сваренной с кожурою, не очень отмытой, а затем толчёной на обрате (обрат — это то, что остаётся от молока после отгонки на сепараторе сливок, коим продуктом рассчитывались его заказчики за ремонты их сепараторов), нередко попадались стальные отходы иголочного нашего производства, отлетевшие в кастрюлю от наждачного круга при заточке, или готовые иголки; впрочем, об этом я уже писал. После сказанных деликатесов божественно-вкусными казались чьи-нибудь чужие, пусть даже простые, пирожки из серой муки-размола, да и что угодно другое, но домашнее, вкусное и не пригоревшее; не подумай, что я привык дармоедничать у других: наоборот, при угощениях я всякий раз испытывал большие неудобства и угрызения. Но Костина мать, маленькая старушка в чистом белом платочке, всякий раз после сделанных нами уроков звала нас к столу, где дымился замечательный домашний борщ, удивительно вкусный, какие-то печеные из теста, картошки, чеснока и ещё чего-то штуковинки, названия коих я забыл, тоже до умопомрачения аппетитные, и другая, не столь богатая, как у Дремяцких, но удивительно домашне-уютно-вкусная снедь.
II. В их домике всегда царила простая, полудеревенская, но какая-то светлая и тёплая чистота — совершеннейший контраст нашему прокопчённому жилищу-мастерской. Костина мать, в отличие от моей, была малограмотной, очень набожной, немногословной, и покормить голодного считала своим христианским долгом, а мне было чертовски неудобно почти ежедневно уписывать у Бугаевых её замечательные пирожки; но отсиживаться в углу, пока её Костя ест, она мне никак не давала; звали её Пелагеей Степановной. Несмотря на глубокую религиозность, в доме том не было ни одной иконы, потому как Костина мать была баптистской веры, а баптисты не признавали ни церквей, ни икон, и, если собирались, то где-то у кого-то дома, весьма скрыто и тайно, иначе было бы несдобровать всему семейству Бугаевых, включая школьника-комсомольца Костю, ибо сказанный баптизм преследовался много более сурово, нежели чем православие. Отец их, Константин Герасимович, работал, после фронтового ранения, ревизором в райпотребсоюзе; он был неверующим, курил; однако семья их была дружной и работящей. Двое из старших братьев Кости уже успели погибнуть на фронте в сорок первом, один — «под снегом холодной России», другой — в том же самом моём родном Чёрном море, в коем через год погибнет и мой единственный брат Толя. Фотопортрет Костиного брата поэтического красавца Николая висел у них в доме на видном и печальном месте; у него осталась вдовствующая невеста, Мария Брюховецкая, работавшая сначала где-то в райкоме, а затем, в Исилькульской типографии, где все дышали свинцовыми парами, от коих она была худа, болезненна и превесьма сильно хворала лёгкими.
III. О другой Костиной родне будет сказано в нужном месте, а здесь скажу, что Маша была человеком высокого интеллекта, исключительной мягкости и душевности, и, хотя она святейше верила не в бога, а в Сталина, была как бы земная святая, каковых и тогда-то в обществе было негусто, а теперь уж и нет вовсе. Из долгих с нею высоких и душевных разговоров (это уже будет после школы; Костя уедет во Владивосток учиться дальше) я мало что запомнил, разве что каламбурную её шутку по поводу некоего увечья, полученного ею в московском вузе, когда во время демонстрации какого-то опыта, она, бедняжка, изрядно пострадала: «Лопа колбнула и кусочек глаза попал в стекло», и, увы, этот глаз перестал видеть. Она нередко читала, мне чьи-то стихи из книг, что у неё были, или просила меня прочесть что-то вслух, или про себя. Это были произведения, явно переведённые с каких-то языков на русский, наполненные какой-то странною тоской и изяществом, трудно пересказуемыми. В этих же книгах были и другие, понятные мне стихи, но я читал их не вслух, а тихонько, про-себя — о неких натуралистических ужасах, описанных с подробностями, но весьма талантливо. Например, было стихотворение о том, как моряки, от безделья и зла, ловят огромных вольных птиц альбатросов, каковые не могут уже взлететь с палубы из-за своих чересчур длинных крыльев, а жестокие мерзавцы и садисты мучают этих небожителей, теперь их пленников, заставляют дышать их своим вонючим табачным дымом, вдуваемым в клюв, и гордые птицы гибнут в невероятных мучениях. Или: «Безглавый женский труп струит на одеяло багровую живую кровь, и белая постель её уже впитала…» Или вдруг увиденную поэтом виселицу с трупом, с жадностью пожираемым вороньём, так что «кишки прорвались вон и вытекли на бёдра». Или, как автор, уменьшившись многократно и попав на тело некоей женщины-гиганта, наслаждается тенью у подножия её сверхогромных грудей, и любит «проползать по уклону её исполинских колен». Или стихотворение, в коем с большим искусным смаком описана падаль, дохлая лошадь, которая «бесстыдно, брюхом вверх, лежала у дороги, зловонный выделяя гной», и шевелилась от превеликого множества червей, каковые, в конце стихотворения, должны впоследствии неизбежно съесть и прелестную спутницу автора, когда она тоже умрет, и пожирать её будут не просто по-червячьи, а этак со смаком, «целуя». Меня, который был хорошо знаком с подобными объектами как натуралист, собиравший именно на падали насекомых, порой наикрасивейших, отнюдь не тошнило от этих стихов; наоборот, я сразу уловил в них некую своеобразную красоту, как бы эстетику смерти и её смердящих предметов. Судить обо всём этом я сейчас не могу, ибо книги мне те больше не попадались, авторов тех стихов я не помню; а если попадутся тебе, дорогой мой внук — поизучай их повнимательней: быть может, «что-то» в них есть кроме червей, падали, могил, гробов и мучимых людьми прекрасных птиц? Прости, что меня занесло далеко от предмета рассказа! От типографской туберкулёзной чахотки Маша Брюховецкая медленного неуклонно угасала, приняв смерть, ещё совсем молоденькой, тихо и безропотно, и случится это уже в сорок пятом году.