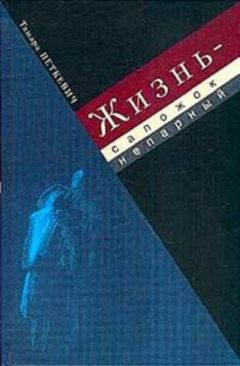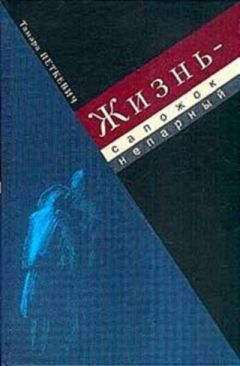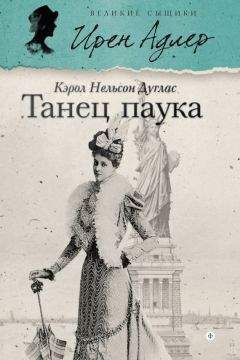Тамара Карсавина - Театральная улица
Нижинский не обладал даром точной и ясной мысли, в еще меньшей мере умел он найти адекватные слова для выражения своих идей. Если бы его попросили издать манифест своей новой веры, даже под угрозой смерти он не смог бы дать более ясное объяснение, чем то, которое дал, пытаясь объяснить свою удивительную способность парить в воздухе. Так и во время репетиций «Игр» он затруднялся растолковать, чего именно от меня хочет. Очень нелегко разучивать партию механически, слепо имитируя показанные им позы. Поскольку мне приходилось поворачивать голову в одну сторону, а руки выворачивать в другую, словно калеке от рождения, мне бы очень помогло, если бы я знала, ради чего это делается. Пребывая в полном неведении относительно конечной цели, я время от времени принимала нормальную позу, Нижинский начинал питать подозрения, будто я умышленно не желаю ему подчиниться. Лучшие друзья как по сцене, так и в жизни, мы часто спорили, репетируя свои роли, но во время постановки этого балета наши столкновения стали чаще обычного и происходили порой по самым нелепым поводам. Не понимая общей идеи, я должна была заучивать последовательность движений наизусть и однажды спросила:
– Что идет дальше?..
– Вам уже следовало бы знать, я не скажу.
– Тогда я отказываюсь от роли.
После двухдневной забастовки я нашла у своих дверей огромный букет цветов, а вечером, благодаря вмешательству Дягилева, произошло полное примирение.
На премьере «Игр» публика тоже разделилась на два враждебных лагеря, но такого скандала, как на «Послеполуденном отдыхе фавна», не произошло. Что думал Дебюсси по поводу интерпретации его музыки, не знаю. Говорят, он сказал лишь: «Pourquoi?» («Зачем?») Но может, это всего лишь выдумка злых языков. Мне он ничего не сказал по поводу этого спектакля, хотя часто приглашал меня в свою ложу. Его обычно сопровождали мадам Дебюсси и их маленькая дочь. Он был так вежлив и обходителен, настолько лишен всяческой позы и сознания своего величия, настолько – искренне восхищался бесхитростной прелестью романтических балетов, за участие в которых так хвалил меня, что, несмотря на его суровый вид и невероятную знаменитость, я получала огромное наслаждение от наших коротких бесед. Правда, разговаривая с олимпийцем, я осмеливалась только бормотать: «Oui Mattre, vous avez raison, Mattre…». («Да, мэтр, вы правы, мэтр…»)
Я так никогда и не смогла избавиться от легкого смущения при знакомстве с какой-нибудь знаменитостью, несмотря на обширную в этой области практику, поскольку в Париже, который Дягилев по праву считал кульминационным пунктом нашего сезона, Русский балет ежедневно общался с великими людьми. К тому же мы часто сотрудничали с творческими личностями Парижа для создания совместных постановок. Во время первого периода истории Русского балета только Париж играл активное участие в нашей творческой работе. За исключением Дебюсси, всегда державшегося несколько отчужденно, другие музыканты и авторы, вступавшие с нами в контакт, с удовольствием участвовали во всех стадиях создания спектакля. В Равеле, например, не было ничего от олимпийца; и он любезно помогал мне разобраться в сложных ритмических пассажах партитуры.
В музыке «Дафниса и Хлои» было много подводных камней. Звучная, возвышенная и прозрачная, словно кристально чистый родник, она таила опасные ловушки для исполнителя. Так, например, в одном из моих танцев ритм постоянно менялся. Фокин был слишком раздражен, чрезмерно много работая, чтобы успеть закончить постановку к сроку, и не мог уделять мне достаточно внимания; утром в день премьеры последний акт еще не был завершен. Мы с Равелем в глубине сцены старательно повторяли: «раз-два-три… раз-два-три-четыре-пять… раз-два», и так до тех пор, пока я не смогла отбросить математику и следовать рисунку музыкальной фразы.
В театре постоянно присутствовал Жан Кокто, enfant terrible (Ужасный ребенок) наших репетиций. Словно проказливый фокстерьер, он скакал по сцене, пока его не прогоняли. «Уходите, Кокто, не смешите их». Но ничто не могло сдержать поток его остроумного красноречия; забавные замечания так и слетали с его хорошо подвешенного языка – «римские свечи», вращающиеся «огненные колеса» юмора. В то лето я позировала Жаку Бланшу. Невозможно было отыскать более тихого убежища от лихорадочной парижской жизни, чем большое ателье художника в Пасси. Такое же спокойствие исходило и от самого художника. Передо мной был еще один аспект французского ума. В его устах личные замечания художника, обращенные к своей модели, имели привкус бесстрастных наблюдений. Его чувство «живописного», как он выразился, было возбуждено при виде странного контраста между утонченными чертами моего лица и сильно развитой шеей. Художник долго изучал меня, прежде чем решить, как лучше передать эту особенность моей внешности, и в конце концов остановился на таком повороте головы, который придавал повелительное выражение позе Жар-птицы, чей образ он выбрал. Внезапное появление в ателье Кокто вносило в творческую атмосферу шум и неразбериху. Он словно дал клятву никогда не оставаться на одном месте, его голос то доносился до нас из-за холстов, то – из сада, то долетал с галереи. Взобравшись туда, он разражался потоком импровизированной речи, изображая из себя проповедника, и лишь тогда ненадолго останавливался. Всего лишь однажды я видела его неподвижным. «Расскажите мне сюжет «Жар-птицы», – попросил он. И пока я рассказывала сказку, сидел и слушал внимательно, как ребенок. Он как раз приступил к работе над либретто к балету «Синий бог», музыку для которого написал Рейнальдо А.Н., человек столь же живого и яркого ума, столь же блестящий, но немного лукавый, любивший добродушно подшутить. Он внимательно следил за постановкой своего балета. Когда напряженная атмосфера репетиции разражалась бурей, он благоразумно удалялся в маленькое кафе, внизу театра «Шатле». Присоединившись к нему и увидев в его неподражаемом исполнении инцидет, казавшийся нам таким серьезным, мы понимали, насколько абсурдным в действительности он был.
Первым автором, сделавшим свое подношение Русскому балету, стал Жан Луи Водуайе, написавший на основе стихотворения Теофиля Готье либретто балета «Призрак розы». Прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как мы впервые станцевали его в «Шатле». Сейчас он практически сдан в чулан, где хранятся сувениры. «Ах, «Призрак розы»!» – до сих пор вздыхают те, кто видел его; и такой огромной была его власть над сердцами, таким неуловимым, но всепроникающим был его аромат, что вздыхают и те, кто пропустил «Призрак розы». Для них это легенда. Благословение самой Терпсихоры лежит на этом балете; он был избавлен от детских болезней, без которых не обошлись другие балеты. Фокин сделал его на едином дыхании, в порыве вдохновения, не находя ни единой погрешности у исполнителей. Рождению спектакля не предшествовали ссоры, скандалы; спокойно прошла премьера. На сцене не было никакой суеты, Дягилев пребывал в благодушном настроении, суетился только Бакст – беспомощный, взволнованный, он переходил по сцене с места на место, держа клетку с канарейкой в руках. С его точки зрения клетка была частью декорации, все же остальные смотрели на нее как на ненужную, помеху. Сначала он повесил клетку над окном, откуда ее убрали – через это окно появлялся Нижинский, а другое окно следовало оставить свободным для знаменитого прыжка Нижинского.