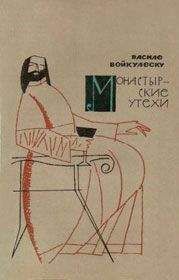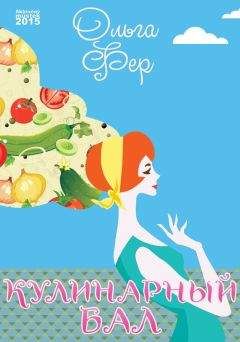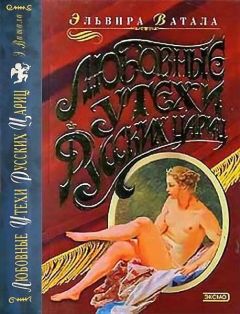Вега Орион - Любовные утехи богемы
К женскому вопросу, а точнее, к идее воплотить в жизнь теорию «перевоспитания» и «образования» женщин в специальных коммунах обращался писатель Василий Слепцов вместе с другими подвижниками. От этой затеи, впрочем, пришлось очень скоро отказаться ввиду полной ее бесперспективности. Эти неудачи навевали ему грустные мысли:
«Чем ближе я схожусь с людьми, чем пристальнее вникаю в их нужды, тем я все больше и больше прихожу к заключению, что человек — самое неблагодарное животное. Серьезно. Самого алчного зверя можно насытить, самую бездонную пропасть можно засыпать — человеческие желания никогда ничем вполне удовлетвориться не могут. Это прорва какая-то, в которую вали кто сколько хочешь — все мало! И даже чем больше валишь — тем хуже, тем ненасытнее она становится, тем быстрее она поглощает и тем скорее забывает то, что в нее попало. Величайшие милости, о которых даже подумать страшно, пролетают в нее совершенно незаметно, точно устрицы, и вслед за тем сейчас же опять, как ни в чем ни бывало, разверзается пасть, и опять подавай, и еще, и еще — без конца.
Известно, что притоны мошенников, бродяг, беспаспортных и прочих подозрительных лиц строго преследуются и уничтожаются, однако такие притоны существуют повсюду: не только в глухих деревнях, но даже в Петербурге, и здесь даже гораздо больше, нежели где-нибудь…»
Как нечто неестественно-фальшивое воспринял бордель средней паршивости Всеволод Гаршин:
«Мы сели и поехали. На Фонтанке, против деревянных, закрашенных резьбою и пестро расписанных масляных краской ворот Гельфрейх остановил извозчика.
Мы прошли через грязный двор, между двумя длинными двухэтажными корпусами старинной постройки. Два сильных рефлектора кидали нам в лицо потоки яркого света; они были повешены по сторонам крыльца, старинного, но тоже обильно украшенного пестрою деревянною резьбою в так называемом русском вкусе. Впереди нас и сзади нас шли люди, направляющиеся туда же, куда и мы, — мужчины в меховых пальто, женщины в длинных дипломатах и Пальмерстонах из претендующей на роскошь материи, шелковые цвета по плиссовому полю, с боа на шеях и в белых шелковых платках на головах; все это входило в подъезд и, поднявшись на несколько ступенек лестницы, раздевалось, обнаруживая по большей части жалко-роскошные туалеты, где шелк заменяла наполовину бумага, бриллианты — шлифованное стекло, а свежесть лица и блеск глаз — цинковые белила, кармин и тердесьен.
Мы взяли в кассе билеты и вступили в целую анфиладу комнат, уставленных маленькими столиками. Душный воздух, пропитанный какими-то странными испарениями, охватил меня. Табачный дым, вместе с запахом пива и дешевой помады, носился в воздухе. Толпа шумела. Иные бесцельно бродили.
Мы пошли бродить по комнатам. В конце анфилады их широкая дверь вела в зал, назначенный для танцев. Желтые шелковые занавески на окнах и расписанный потолок, ряды венских стульев по стенам, в углу залы белая большая ниша в форме раковины, где сидел оркестр из пятнадцати человек. Женщины, по большей части обнявшись, парами ходили по зале; мужчины сидели вдоль стен и наблюдали их» («Надежда Николаевна»).
Как и эти молодые люди, о которых здесь идет речь, писатели демократического толка скорее исследовали «явление» со стороны, большей частью из-за одной весьма прозаической, но немаловажной детали: нехватки средств… Так что пользоваться предпочитали все-таки трактирами, совмещавшими, как правило, в себе и недорогой ресторан, и клуб, где обменивались новостями, читали свежие газеты, а также игорный и публичный дом, смотря по его разряду.
Карточная игра, кстати, доставляла русским литераторам не меньше, а то и больше наслаждения, чем женщины. Если Пушкин счастливо совмещал интерес и к тому, и к другому, точнее, другим, то страсть Некрасова к азартной игре поглощала его целиком. Об этом упоминают все те, кто близко его знал. Достоевский лечился от этой духовной напасти, как от тяжелой болезни, и не без труда отказался от недуга.
К концу XIX в. не осталось не то что демократически настроенного интеллигента, но даже просто здравомыслящего человека, который бы не задавался вопросом: «Почему такое положение женщин стало возможным и как быть дальше?» Проституток просто изводили досужими поползновениями «залезть в душу», и тем приходилось защищаться, пуская в ход грубость:
«Студент, получив от проститутки то, что ему было нужно, закурил папиросу и сочувственно спросил:
— Как ты дошла до этого?
Она вскочила на постели и сказала:
— А ты как до этого дошел?
Он с недоумением:
— До чего?
— Что покупаешь человека!»
Как и у Вересаева, на это же обстоятельство сетуют и обитательницы притона Анны Марковны в «Яме» Куприна.
«Изнанка» жизни притягивала к себе Вересаева как публициста, писателя и как врача. Опять-таки в его записках находим небольшой очерк о сломанной судьбе красивой молодой женщины. Повествователь намеренно устраняется из читательского поля зрения, давая возможность участникам событий, о ком он пишет. В полицейском участке Вересаев становится свидетелем того, как арестовывают за убийство мужа Татьяну-красавицу, рано поблекшую. Совершить злодеяние ее подговорил бывший ее любовник — он натешился с Татьяной, она ему прискучила, и он ее бросил ради новых приключений. В отличие от него женщина платит за мгновение счастья в своей многотрудной жизни сполна… Силой любви и цельностью характера она восхищает даже видевших виды полицейских. Что, впрочем, вряд ли скажется при вынесении приговора — он будет самым суровым, а похлопотать за нее некому…
Старик следователь, когда ее допрашивали, становился все мягче. А когда ее увели, развел руками и сказал:
— Вот не думал, чтоб на Хитровом рынке могла быть такая жемчужина!
Товарищ прокурора, уравновешенный, не старый человек в золотых очках, задумчиво улыбнулся:
— «Вечно женственное» в помойной яме…
Одаренная, и как ни парадоксально звучит, эта чистая натура, поддавшись влиянию «среды», тех негодяев, которые использовали ее в своих целях, оказывается для общества потерянной.
* * *В России среду литераторов в меньшей степени, чем Францию, затронула потребность в дневниках. Если в Европе в качестве эпатажа и стремления скандализировать публику писатели довольно часто шли на то, чтобы опубликовать свои интимные признания, в Российской империи литераторы подобного не могли себе позволить.
Прекрасно об этом высказался пострадавший от недопонимания критики и публики Федор Шаляпин:
«Романы «публики» с личностью у нас на Руси тоже частенько принимают суконно-слободской характер. В отношениях мужчины с женщиной все-таки возможно взаимное возвышение друг друга. Хороший мужчина нередко возвышает до себя плохую женщину; хорошая женщина часто способна перевоспитать плохого мужчину. Но «публика» не в состоянии воспитать личность артиста, художника. Артист талантливее ее. И выходит как-то так, что публика невольно стремится принизить личность до себя. Чтобы не высовывалась».