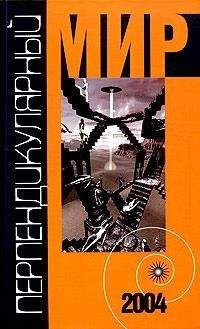Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век
Москва, 15 марта 1927 г. Лидин — Либерману:
«Дорогой Семен Петрович, спасибо Вам за заботы о Клабунде!.. Относительно пьес думал я не раз, но все, что есть у нас, вряд ли подходит для запада…»
Берлин 30 марта 1927 г. Либерман — Лидину:
«Дорогой Владимир Германович, Ваше открытое <письмо> получил. Благодарю. Простите — не сразу ответил. Но мне хотелось поговорить с Клабундом раньше, чем написать Вам. Клабунд вернулся лишь недавно, говорил с ним telefonisch. Покуда пьеса не шла еще ни в Гамбурге, ни в Берлине. Клабунд обещал немедленно извещать меня о событиях. Но и я буду у него время от времени справляться».
С этого дня о Клабунде — ни слова. Летом 1927-го Лидин был во Франции, но в Берлин не заехал, а в 1928-м Клабунд умер.
IV. Московский эпилог
В Берлине Либермана удерживало лишь свободное владение языком. Но жизненных перспектив — никаких; он раздумывал об отъезде и 28 февраля 1927 года впервые написал об этом Лидину: «…Возможно, что я в ближайшее время уеду из Германии. Это выяснится недели через три. Покуда еще неизвестно. Новостей здесь, увы, нет. Прозябаем. Интересного мало. Работы мало. Одним словом, чуть ли не панихидное настроение». С отъездом, однако, что-то не клеилось; об этом глухие упоминания в письмах Лидину — 30 марта 1927-го: «У меня покуда — все „без перемен“. Может, к Пасхе кое-что наметится», 27 июля 1927-го: «О себе ничего нового сообщить не могу. Увы, но это все-таки так. А старое не очень отрадно».
Парижская жизнь друзей из группы «4+1» складывалась тоже не блестяще: Андреев выпустил книгу лишь в 1928-м, Присманова — в 1937-м, Сосинскому изредка светила лишь периодика. И только Венус в Ленинграде, где родился и вырос, демонстрировал удачу: в 1926-м вышла книга его прозы, в 1927-м — 3 книги (роман и рассказы), в 1928-м — новый роман… Было над чем задуматься.
О дальнейшей судьбе Либермана — из письма его сына: «В 1928 году мой отец приехал в Москву вместе со своей первой женой B. C. Матецкой…» Найти литературную работу в Москве оказалось не легче, чем в Берлине. Это подтверждают сохраненные Либерманом два письма Луначарского, который к тому времени реальной властью уже не обладал, и с его рекомендациями не очень-то считались, даже если они были напечатаны на бланках Наркомата просвещения.
«2 августа 1928
лично
В редакцию „Красная нива“
тов. Полонскому
Дорогой Товарищ,
Пользуюсь случаем чтобы поздравить себя и Вас с возвращением на прежнюю работу[63]. Посылаю Вам молодого писателя, тов. Либермана, недавно вернувшегося из Германии, долго жившего на Западе, прекрасного знатока языков, западной литературы, кино-вопросов, театра и многих других сторон европейской жизни.
Мне кажется, он мог бы быть Вам чрезвычайно полезен.
Нарком по просвещению А. Луначарский».И через четыре пустых для Либермана месяца — вторая записка: члену Коллегии Наркомпроса, председателю правления Госиздата Артемию Халатову:
«7 декабря 1928
Тов. Халатову.
Дорогой товарищ.
Мне хорошо известен молодой литературный работник Либерман. Он человек многосторонне одаренный, хорошо знает языки, западно-европейскую жизнь и западно-европейскую литературу. Он говорил мне, что предполагается пригласить его в качестве референта по западно-европейской литературе в отдел Иностранной литературы при ГИЗ’е. Я считаю, что выбор был бы сделан вполне удачно, тов. Либерман подходит к этому месту.
Нарком по просвещению Луначарский».И снова все сорвалось. Для писателей, почтительных к Либерману в Берлине, в Москве он был обуза. Чтобы прокормить семью, оставалось одно — пойти в учителя, преподавать немецкий. Наверное, такая жизнь в тени и спасла его в 1937-м, когда уцелевшие авторы «Russische Rundschau» о давнем немецком журнале надежно забыли. Еще в 1936-м умерла от туберкулеза жена Либермана…
Напоследок процитирую письмо его сына, родившегося от второго брака:
«В 1940 г. мой отец вместе с 11-летней дочкой навестил своих родителей, живших в то время во Львове, что стало возможным после „братского воссоединения народов“ в 1939 г. Это был последний раз, когда он видел их, вся семья была уничтожена в годы фашистской оккупации. Мой отец преподавал немецкий язык и занимался переводами, когда получал такую работу. Перевел кое-что Ауэрбаха, Шницлера, Песталоцци с немецкого, Т. Ружевича с польского и некоторых восточных поэтов с подстрочников[64]. В 1952 г. мой отец потерял педагогическую работу и наша семья сильно бедствовала. Умер мой отец в Москве в 1975 г.»…
Когда в 1980-е годы я говорил с В. Б. Сосинским в его московской квартире на Ленинском проспекте, он был уже в неважной форме, но, рассказывая про Париж между двумя войнами, заметно оживлялся. Увы, о С. П. Либермане я ничего тогда не знал и о Берлине 1923–1924 годов не расспрашивал…
Приложение
Три характерных письма из архива Либермана
Письма Либермана писателям — деловые, вежливые, официальные. И, как правило, без личного тона — он проскальзывал разве что в некоторых письмах легкому остроумцу Лидину; скажем, 23 августа 1926 года:
«Сейчас отдыхаю — скоро вновь Берлин, унтергрунды, файфоклоки и прочая дрянь; здесь тихо, покойно, хорошо; с гор стремится в долину десяток ручьев. Журчит вода, и можно представить себе (надо закрыть непременно глаза): фонтаны, висячие сады и гурии. О, пыль воспоминаний. Что с Вами? где Вы — в Крыму, на Кавказе? Иль может быть Вы на полюсе — тревожите сон космоса и медведей или Тибет приглянулся Вам нынешним летом? Ведь Вы у нас оставили о себе впечатление — вечного странника, открывателя новых земель и новых возможностей. Так что напишите о себе, о Москве, о литературе российской — если есть — дайте нам анекдот, чтоб и над нами реяло знамя святой литературы».
Из той пачки писательских писем, которую Либерман сохранил и мы широко цитировали, приведем еще три письма, но и в них отражаются авторы и эпоха, характеры и стили.
Вот бесхитростный, непосредственный и нервный Андрей Соболь (до его самоубийства оставалось 8 месяцев).
«Эртелево, 1 сент. 1925 г.
Ст. Графская Воронежск. губ. Хутор Эртелево.
Многоуважаемый Семен Петрович, я как раз пытаюсь, так сказать, найти Вас — снова пишу Вам. Очень меня огорчает Ваше молчание. Никак не могу понять, почему и за что Вы на меня рассердились, — иначе как объяснить Ваше молчание. Спрашивал Вас, как обстоит дело с моими рассказами, взяли ли Вы что-нибудь из моей книги для Вашего журнала, когда выходит первый номер. Спрашивал Вас также, готовить ли для Вас книжку моих еврейских рассказов, — и на все никакого ответа.