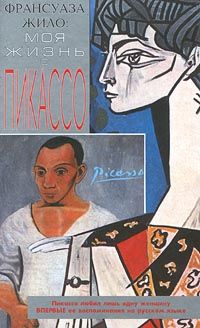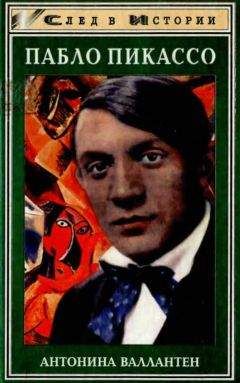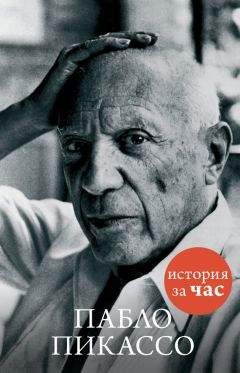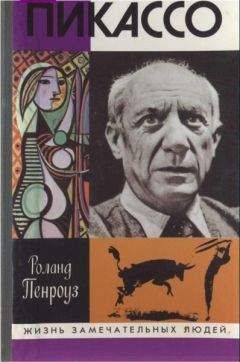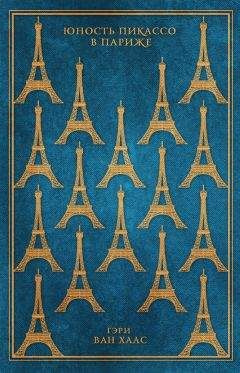Коллектив авторов - Пикассо сегодня. Коллективная монография
В Мужене, вспоминает Андре Мальро, «он вводит меня в маленькую соседнюю комнату; извлекает из-за пояса связку ключей, открывает металлический шкаф. На его полках статуэтки очень вытянутые, которые называли тогда критскими, один идол – скрипка Циклад, два муляжа доисторических статуэток…»[604]. Среди сокровищ бережно хранимой Пикассо личной коллекции – реальные античные «артефакты». В его метафизике – «время иронической вездесущности греческого знака бесконечности»[605].
Изобилие примеров, приведенных выше, все же не раскрывает всей полноты явления, которое условно можно обозначать как «Античность в творчестве Пикассо». При кризисе художественного сознания в ХХ веке жизнестроительные потенции античной культуры, ее мифологические и символические образы были осознанно восприняты крупнейшим мастером и отражены в его творчестве, аккумулируя прежде всего энергетические токи и раздумия современности.
А. К. Якимович
ПИКАССО – «МЕНИНЫ» – ВЕЛАСКЕС
В 1957 году Пикассо написал 58 вариаций на тему картины Веласкеса «Менины». Здесь есть очевидная числовая символика. За триста лет до того, в 1656 году, в мадридской дворцовой мастерской была написана первая, исходная картина «Менины». Что именно означает число вариаций Пикассо, то есть 58 штук, я не берусь решить. Пожалуй, Пикассо был слишком импульсивен и иррационален, чтобы исполнить математическое задание: 57 + 1 = 58. Здесь я не стану и пытаться рассматривать в одном небольшом эссе все пятьдесят восемь работ Пикассо на тему картины «Менины». Я остановлюсь на одной, может быть, самой ключевой и принципиальной версии, которая принадлежит музею Барселоны.
Исследователей с давних пор соблазняет задача: найти скрытые смыслы в отдельных произведениях и циклах Пикассо, в том числе и его послевоенных циклах на темы шедевров истории живописи – от Кранаха до Делакруа. Вот одна из последних интерпретаций. Мике Баль и Норман Брайсон предложили свое прочтение барселонской картины Пикассо и других вариаций мастера на тему картины Веласкеса «Менины». Они написали следующее: Фигуры не защищают девочку, а сгущают атмосферу, копошась какой-то нечистью в темных углах…девочка, поставленная в центр прямо перед зрителем, беспомощно подчиняется насилию картины… Если же смотреть на Веласкеса сквозь перспективу Пикассо, то все персонажи картины предстанут лишь фоном, подчеркивающим одиночество девочки; придворная сцена окажется демонстрацией сексуального подтекста самого процесса живописания и рассматривания[606].
Звезды постмодернистского деконструктивного искусствоведения пытаются спроецировать на веласкесовские опыты Пикассо одну из самых вызывающих идей неофрейдизма. Разглядывание само по себе есть нечто нечистое, гадкое и насильственное. Разглядывать вещь, лицо, картину, событие, вид есть проявление нашего животного тяготения к насилию. Мы смотрим – это значит, что мы раздеваем, забираемся в интимные места, притом без всякого согласия разглядываемого объекта. Рассматривать, визуально анализировать, углубляться в увиденное и давать ему некие объяснения – означает своего рода сублимированное сексуальное домогательство. Это своего рода вызов всем нам, академическим исследователям искусства. Мы ведь постоянно вглядываемся в картины, рассматриваем их то так, то эдак. Непристойное занятие. По логике Баля и Брайсона, наше занятие есть вид извращения.
Тезис Брайсона связан не только с поздними фрейдовскими фантазиями о связи между Эросом и Танатосом, но и с принципиальным положением Ницше о том, что познание есть сублимация инстинкта охотника: догнать, убить, расчленить.
Последние утонченные версии грубого биологизма в мышлении нередко коробят нас и шокируют. Но главная досада в том, что несносный Брайсон, как и другие теоретики постмодернизма, на самом деле переводит на свой деконструктивный язык один типичный ход традиционного и общепринятого искусствоведения.
Люди нашей профессии, когда они пытаются понять официальный парадный портрет, в котором юное существо или очаровательная дама запечатлены в дворцовой атмосфере, среди колонн, драпировок и другого антуража доминации, в великолепном и чаще всего довольно неудобном костюме, как правило, начинают жалеть бедняжку. Здесь я говорю в том числе и прежде всего о самом себе. Интерпретируя официальные детские портреты Веласкеса, то есть портреты принца Балтасара Карлоса и инфанты Маргариты, я нередко говорил и писал о том, что ребенку тяжело, что во дворце ему плохо, что он погружен в метафизически тяжкую и мертвую атмосферу абсолютной власти, с ее всеподавляющей мифоидеологией абсолютизма, и так далее. Если снять холодную оболочку научности, то мы обнаружим в искусствоведении много сочувствия к бедным и обделенным, слабым существам, оказавшимся в беспощадных лапах истории, социума, власти, космоса. Сколько мы жалели героев Ватто и Давида, Брюллова и Перова, Ван Гога и Репина, молодого Пикассо и Шагала!
Бедняжке принцессе тяжело, ее давит, ей что-то угрожает, ей надо посочувствовать. Сколько раз об этом писали и говорили. Норман Брайсон и Мике Баль ничего особенного не изобрели, ибо они не революционеры, а деконструктивисты, а это не одно и то же. Они сделали крайние и вызывающие выводы из нашей общепринятой этики (то есть поплакать о несчастных и пойти дальше). Они предложили посмотреть на проблему с точки зрения космополитического интеллектуала по ту сторону этики. Девочке плохо, вокруг копошится гадость и нечисть, она в ловушке, она в аду. Вот о чем написана картина Пикассо по мотивам Веласкеса. Так говорил Брайсон. Он, как видно, полагал, что немолодой Пикассо, никогда не бывший интеллектуалом, с чего-то вдруг стал думать так, как думает отвязанный современный интеллектуал. Когда мы смотрим, мы самим смотрением отрицаем заветы этики и эстетики. Мы наслаждаемся насилием над увиденным, и никаких угрызений совести.
Как зритель и исследователь, я сказал бы, что Брайсон и Баль не совсем слепы, но отчасти подслеповаты. Точнее сказать, им дороже их фрейдистские фантазии, нежели картина Пикассо. Барселонская картина живая, она и трагичная, и веселая. Там есть загадочная огромная фигура самого художника Веласкеса и его голова с двумя лицами, которые смотрят друг на друга. Это внушительная и странная фигура, она наверняка значит что-то важное. Неужто внушительный, но не страшный этот гигант с двумя лицами – тоже часть той «нечисти», которая, по Брайсону, копошится по углам и составляет угрозу юной дочери короля?