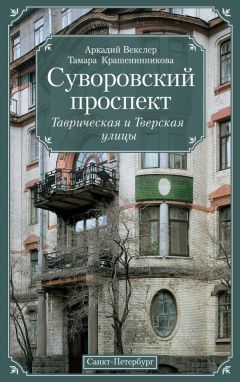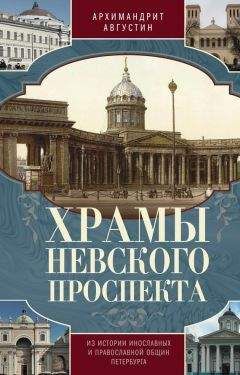Александр Николюкин - Розанов
Старший из них отправился к Паулине и сказал, что явился в качестве посланца от самого бога Анубиса, который-де пылает страстью к Паулине и зовет ее к себе. Римлянке доставило это удовольствие, она возгордилась благоволением Анубиса и сообщила своему мужу, что бог Анубис пригласил ее разделить с ним трапезу и ложе. Муж не воспротивился этому, зная скромность жены своей. Поэтому Паулина отправилась в храм. После трапезы, когда наступило время лечь спать, жрец запер все двери. Затем были потушены огни, и спрятанный в храме Мунд вступил в обладание Паулиной, которая отдавалась ему в течение всей ночи, предполагая в нем бога. Затем юноша удалился раньше, чем вошли жрецы…
Паулина рано поутру вернулась к мужу, рассказала ему о том, как к ней явился Анубис, и хвасталась перед ним, как ласкал ее бог. Слышавшие это не верили тому, изумляясь необычности события, но не могли не верить Паулине, зная ее порядочность. На третий день после этого она встретилась с Мундом, который сказал ей: „Паулина, я сберег 200 000 драхм, которые ты могла внести в свой дом. И все-таки ты не преминула отдаться мне. Ты пыталась отвергнуть Мунда. Но мне не было дела до имени, мне нужно было лишь наслаждаться, а потому я прикрылся именем Анубиса“. Сказав это, юноша удалился. Паулина теперь только поняла всю дерзость его поступка, разодрала на себе одежды, рассказала мужу о всей гнусности и просила помочь ей наказать Мунда за это чудовищное преступление. Муж ее сообщил обо всем императору. Жрецы и служанка были распяты, храм разрушен, Мунд отправлен в ссылку.
Таков пересказанный Розановым в статье „Демон“ Лермонтова и его древние родичи» «миф с подлогом». Но чтобы создать злоупотребление, нужно иметь веру в подлинность мифа. Ни Паулину, ни ее мужа не оскорбило требование совокупления в храме. «Сам Анубис (изображавшийся в виде шакала) спускается к нам и хочет соучаствовать нашему браку, сделать тебя небожительницею. Спеши же, спеши и радуйся!» — нечто в этом роде было свойственно мифомышлению древних, веривших, что боги сходили на землю и роднились с людьми.
Розанов один из первых сравнил лермонтовского Демона с мильтоновским Сатаной. И сделал это по-розановски интуитивно: «Я не читал „Потерянного рая“ Мильтона, но мне запомнились где-то, когда-то прочитанные слова, что собственно ярок и обаятелен — Сатана, а о Боге — мало и бледно. Значит, тоже вроде „Демона“ Лермонтова»[321].
Гений Лермонтова «омрачен мрачностью», говорил Розанов и усматривал в этом одну из причин некоторой «нерасположенности» у нас к поэту. «Истинно серьезное русский видит или непременно хочет видеть только в сочетании с бодрой веселостью или добротой. Шутку любил даже Петр Великий, и если бы его преобразования совершались при непрерывной угрюмости, они просто не принялись бы. „Не нашего ты духа“, — сказали бы ему»[322].
Все великие писатели русские несли в себе доброту и мечту. Розанов называет их «абсолютистами сердца» и замечает: «Знаете, что у нас был даже абсолютно здравый смысл?! Это — Пушкин… Все море русской жизни с ее крепким здравомыслием, в сущности, отражает Пушкина, или, пожалуй, Пушкин отразил его. Но и здесь здравый смысл довел до абсолютности же».
Пушкин был ясен и понятен. Лермонтов оставался загадочен и туманен, его неразгаданность волновала и привлекала Розанова. «И вот, три года возясь около своей темы, — писал он по поводу лермонтовской „Морской царевны“, — я испытываю это же бессилие неосторожного „царевича“ и, наконец, сосредоточиваюсь мыслью на этом самом бессилии, на невозможности при свете дня увидеть живую тайну нашего бытия, нашего рождения…»
Розанов находил у Лермонтова изображение «тайн вечности и гроба» (глава «Из загадок человеческой природы» в книге «В мире неясного и нерешенного»), утверждал, что Лермонтов имел ключ той «гармонии» (слияние природы и Бога), о которой вечно и смутно говорил Достоевский (статья «Вечно печальная дуэль»). Причудливость и непостигнутая загадочность Лермонтова сравнивались им с кометой, сбившейся со своих и забежавшей на чужие пути (книга «Когда начальство ушло…»). В последней своей статье о Лермонтове, написанной к 75-летию гибели поэта, Розанов вновь возвращается к мысли о его убийце: назовут Лермонтова — назовут Мартынова, фатально, непременно. Одного благословят, другого проклянут.
Лермонтов поднимался за Пушкиным неизмеримо более сильной птицей, утверждает Розанов. В последних стихах поэта он видит «красоту и глубину, заливающую Пушкина». Пушкин «навевал», Лермонтов же «приказывал». «Ах, и „державный же это был поэт!“ Какой тон… Как у Лермонтова — такого тона еще не было ни у кого в русской литературе. Вышел — и владеет. Сказал — и повинуются… У него были нахмуренные очи. У Пушкина — вечно ясные. Вот разница. И Пушкин сердился, но не действительным серженьем. Лермонтов сердился действительным серженьем. И он так рано умер! Бедные мы, растерянные… Час смерти Лермонтова — сиротство России»[323]. Такими пронзительными словами завершилась встреча Розанова с Лермонтовым.
Последние и, может быть, самые глубокие слова Розанова о Лермонтове остались неопубликованными. Мы читаем их только теперь, три четверти века спустя. И в этом тоже утрата русской культуры, ее сиротство после 1917 года.
17 сентября 1915 года Василий Васильевич записал: «Пала звезда с неба, не догорев, не долетев. Метеор. Из космической материи, вовсе не земной, — но упал на землю, завалился в канаву, где-нибудь в Сибири: и ученые — подходя — исследуют, не понимают и только в „Музее мертвых вещей“ наклеили этикетку: „Метеорическое тело. Весом 7 пуд. 10 ф. 34 золотника. Состав: железо, углерод, фосфор“ etc.
Бедные ученые.
Бедные мы.
Я всегда думал: доживи он хоть этот год до конца… А если бы этот год и еще один следующий (один год!! только 12 месяцев!!! — Боже, отчего же Ты не дотянул??? отчего языческие парки перерезали нить?) — он бы уже поднялся как Пушкин, до высоты его — и сделал бы невозможным „Гоголя в русской литературе“, предугадав его, погасив его a priori.
То, что мы все чувствуем и в чем заключается самая суть — это что Лермонтов был сильнее Пушкина и, так сказать, „урожденнее — выше“. Более что-то аристократическое, более что-то возвышенное, более божественное. В пеленах „архиерей“, с пеленок „уже помазанный“. Чудный дар. Чудное явление. Пушкин был немножко terre-a-terre <приземленный> слишком уж „русский“, без иностранного. Это мило нашему сердцу, и мы гордимся и радуемся: но в глубине-то вещей, „когда русский без иностранного“ — и по сему качеству излишнего русизма он даже немножко не русский. Итак, terre-a-terre и мундир камер-юнкера, надетый на него какою-то насмешкой, выражает в тайне очень глубоко и верно его terre-a-terre’ность. В Лермонтове это прямо невозможность. Он слишком „бог“, — и ни к Аполлону, ни к Аиду чин камер-юнкера не приложим…