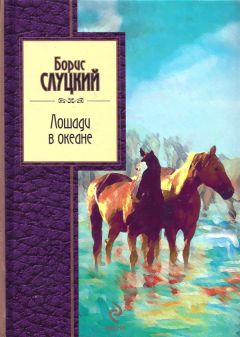Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
И в подтверждение приводит строки Слуцкого:
Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечесть — удивительно —
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны.
Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.
Трудно понять, почему на этом месте Лазарев обрывает знаменитое стихотворение Слуцкого. Окончательные строки стихотворения более существенны и вместе с тем не менее важны для подтверждения мысли Лазарева о близости мотивов в творчестве двух поэтов. Кстати, эти строки оправдывают и название книги «Без поправок…», которое дал ей составитель Л. Лазарев.
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю,
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу…
Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.
Я еще без поправок
Эту книгу издам!
Но близость мотивов — отнюдь не подражание и тем более не заимствование. Тяжелая война и трагическая советская действительность ставили поэтов в сходные условия и вызывали поэтический отклик, хотя и различный у каждого из них.
Стихов Слуцкого Твардовский не любил и не печатал. Борис относился к этому хладнокровно, хотя сам некоторые произведения Александра Трифоновича весьма ценил. «Первое, что у Твардовского понравилось мне полностью, было “Дом у дороги”… В войну, когда во фронтовой печати начали появляться главы из «Василия Теркина», они сначала удивили своей непохожестью на жизнь. По мелочам, по деталям все было увидено, подмечено, схвачено. Но жестокое и печальное начало войны не выглядело ни жестоким, ни печальным. В то же время “Василий Теркин” от главы к главе выглядел все талантливее, все звонче…
Я читал продолжение “Василия Теркина” без раздражения, даже с удовольствием. Это была несомненная поэзия… Но только не моя поэзия…»[202]
А как относился Твардовский к Слуцкому-поэту? Оба понимали, что «бытовавшие как само собой разумеющееся литературные представления слишком далеко их развели» (Л. Лазарев). Маргарита Алигер вспоминает, что «Твардовский не раз приглашал в журнал Бориса Слуцкого, но умный Слуцкий вежливо отказывался, понимая, что добром это не кончится»[203]. Своих стихов Твардовскому Слуцкий никогда не предлагал.
Есть в «Рубиконе» и Леонид Мартынов, поэт, наиболее близкий Слуцкому в пятидесятые годы. Их связывала верная дружба. По свидетельству Владимира Огнева, близко знавшего их и часто встречавшегося с обоими, «Слуцкий держался покровительственно, хотя был моложе на четырнадцать лет. Беззащитность Леонида Николаевича покрывалась рыцарством Бориса. Когда я редактировал и составлял антологии иностранной поэзии, Слуцкий ревниво следил: не обделю ли я Мартынова лучшими стихотворениями и поэтами»[204].
В иерархическом списке наличной поэзии первое место Слуцкий отводил Мартынову, себе же — второе. «В <его> списочном составе литературного ренессанса, — пишет Самойлов, — не было места для Пастернака и Ахматовой. Слуцкий тогда <конец 50-х годов> всерьез мне говорил, что Мартынов — явление поважнее и поэт поталантливее»[205].
Из не попавших в «Рубикон» больше всего досталось Вере Инбер, которую Заболоцкий называл «Сухофрукт».
В Италии она в основном «стяжательствовала» по магазинам.
Много позже, в 1970 году ей исполнилось 80. Она вяло хвасталась телеграммами.
«Все спрашивают, не выжила ли она из ума, не поглупела ли.
Я искренне отвечаю, что нет.
Она в уме, в том уме, не малом и не большом, в котором прожила всю жизнь.
Она спрашивает у меня: “Слуцкий, что вы такой мрачный? У вас все в порядке?”[206]
И, выслушав ответ, убежденно говорит: “У меня все в порядке. У меня всегда все в порядке”».
Это настойчивое «Все в порядке» подвигло Слуцкого написать в несвойственной ему манере злую эпиграмму:
«У меня все в порядке», — сказала старуха,
У которой присутствие духа
Достигало зловеще большого размера,
В нашем маленьком царстве
господствует ясность и мера…
«У меня все в порядке,
А у вас все в порядке?
Наблюдая внимательно ваши глаза и повадки,
Я пришла к заключенью,
что вы предаетесь волненью.
Почему?
Может быть, вы подверглись гоненью?
Может, что-то случилось? Со мной ничего не случалось.
Я хотела, пыталась, но как-то не получалось».
И старуха, которую сам Заболоцкий
назвал сухофруктом,
Но которая в Риме, Ассирии и Вавилоне
Пребывала бы у природы родимой на лоне,
Улыбнулась и молвила тихо: «Я наша!»
И поэтому минет меня неприятная чаша.
Ну а если не минет, с дороги собьется,
То я не обопьюсь, а сама она разобьется[207].
отношении Слуцкого к писателям и их труду есть несколько весьма характерных свидетельств.
Из воспоминаний Бенедикта Сарнова:
«В одном разговоре Борис вдруг спросил меня (он любил задавать такие неожиданные “провокационные” вопросы):
— Как, по-вашему, кто правильнее прожил свою жизнь: Эренбург или Паустовский?
Я ответил, не задумываясь:
— Конечно Паустовский.
— Почему?
— Не выгрался в эту грязную игру, был дальше от власти. Не приходилось врать, изворачиваться, кривить душой.
Он, конечно, ждал такого ответа. И у него уже готово было возражение.
— Нет, вы не правы, — покачал он головой. — Конечно, Эренбургу приходилось идти на компромиссы. Но зато скольким людям он помог. А кое-кого так даже и вытащил с того света…
Тогда я, конечно, остался при своем мнении. (Он, разумеется, при своем.) Но сейчас я уже не так уверен, что прав тогда был я, а не он»[208].
Татьяна Бек, слышавшая этот рассказ Сарнова на вечере, посвященном 85-летию Бориса Слуцкого, отреагировала на него так:
«Не знаю как кто, а я, когда Борис Абрамович задавал подобные, как бы простодушные и прямолинейные вопросы, ощущала в них некую “творческую провокацию”. Уверена, что, отвечая на им самим поставленный вопрос (Эренбург или Паустовский), Слуцкий прекрасно понимал, что сие — не единственно возможная альтернатива.