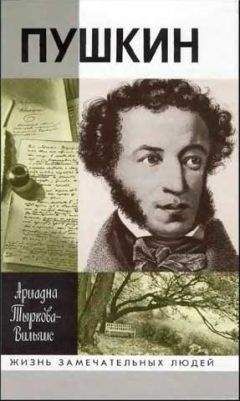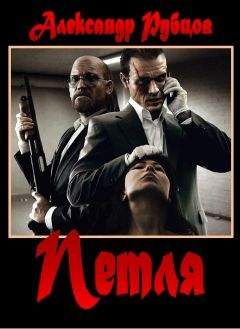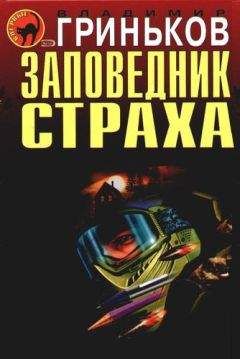Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824
Еще от лицейских профессоров, главным образом от Куницына, наслушался Пушкин рассуждений о правах человека и гражданина.
Теми же мыслями волновалась, горячо их обсуждала блестящая военная молодежь, с которой поэт встречался в Царском Селе и окончательно сблизился в Петербурге.
Один из них, П. Я. Чаадаев (1796–1856), оставил явственный след на умственном развитии Пушкина и, может быть, еще больший на развитии его характера.
Чаадаев, как и большинство его образованных современников, учился не столько в профессорских аудиториях, сколько от жизни и из книг. Пробыв недолго в Московском университете, он поступил в Семеновский полк, и в день Бородина стоял около полкового знамени. Дрался под Кульмом и Лейпцигом. Был в почетном карауле при Александре, когда русские войска входили в Париж. Вернулся вместе с гвардией, поступил в лейб-гусарский полк, стоявший в Царском Селе. Потом был назначен адъютантом к командующему войсками петербургского округа кн. Иллариону Васильевичу Васильчикову.
Красивый, англизированный, сдержанный, с отличными манерами, всегда безукоризненно одетый, Чаадаев считал, что заботы о своей внешности есть необходимая часть самовоспитания и самоуважения. Пушкину это нравилось. После неряшливой семьи ему было чему научиться от Чаадаева. Для только что сбросившего с себя лицейскую курточку и не привыкшего к штатскому платью поэта этот изящный, умный щеголь был своего рода arbiter elegantiarum[27].
Около этого времени в Париже произошла революция в мужских модах. Раньше носили узкие в обтяжку штаны с ботфортами, или штаны до колен с чулками и башмаками. Это был пережиток костюма XVIII века, с той разницей, что после французской революции мужчины, сохранив общий покрой одежды, отказались от лент и кружев, стали одеваться в более темные цвета, носить сукно вместо шелка. После 1818 года появился тот тип мужской одежды, темной, одноцветной, простой, который держится и до сих пор. Стали носить широкие брюки навыпуск и сюртуки. Старикам, привыкшим к фракам, это казалось безобразным и дерзким новшеством. Пушкин, вообще любивший хорошо одеваться, быстро усвоил новые моды и этим лишний раз обращал на себя внимание староверов.
П. Бартенев рассказывает, что после первой своей болезни (1818) Пушкин еще долго ходил обритый и в ермолке. – «Видевшие его в то время помнят, что он носил широкий черный фрак с нескошенными фалдами à l'americaine[28] (сюртук) и шляпу с широким полями à la Bolivar, о которой после упомянул, описывая наряд Онегина. Тогда же начал он носить длинные ногти, привычка, которой он не изменил до конца, любя щеголять своими изящными пальцами».
Но, конечно, не на уроках франтовства окрепла близость Чаадаева с Пушкиным, который быстро угадал характер своего нового приятеля. Еще в Лицее сочинил он надпись к портрету Чаадаева:
Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской,
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.
Кроме этого, Пушкин посвятил Чаадаеву три стихотворения (1818, 1820, 1821), из которых два очень значительные.
Образованный, с умом ясным и скептическим, с очень определенными политическими взглядами, Чаадаев умел раскрывать свое мировоззрение и заражать своими идеалами. Позднейшая трагедия жизни Чаадаева в том и состояла, что в России не было применения еще для таланта общественности. Но в то время, когда они с Пушкиным встретились, эта роковая безысходность еще не проявилась. Русские образованные люди еще не противополагали себя правительству. В их разговорах о политике, в мечтах о переустройстве России звучала бодрость.
В первом стихотворении, посвященном Чаадаеву, Пушкин писал:
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Изысканность Чаадаева, законченное изящество его мыслей, сдержанная сила воли, которую Пушкин сначала принял за гордость, весь его облик, красивый и своеобразный, действовал на поэта сильнее аргументов и рассуждений. Пушкин, всегда искавший людей, которые могли бы обогатить его умственную или духовную жизнь, часто видался с Чаадаевым.
«С шумных пиров, с блестящих балов, с театральных репетиций поэт нередко убегал в кабинет друга своего в Демутовом трактире, чтобы освежить ум и сердце искреннею и дельною беседою» (Бартенев).
Скучая на юге без своих петербургских друзей, Пушкин так описал эти встречи:
Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Посмотрим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я…
Среди петербургских знакомых и приятелей Пушкина все толковали о политике, все жаждали конституции, все мечтали об освобождении крестьян, о вольности святой. Но никому из них не посвятил Пушкин таких насыщенных политическою страстностью стихов, как Чаадаеву. Это не только единомыслие, это общность устремления, общность внутреннего духовного ритма, отразившегося и в стихах. Не к Николаю Тургеневу, не к Пущину, а именно к Чаадаеву обращается поэт со словами:
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут паши имена.
Чаадаев имел влияние не только на ум, на взгляды поэта, но, что несравненно важнее, на развитие и оздоровление его характера, который нелегко было ввести в русло. Пушкин сам рассказал об этом в Кишиневском послании к Чаадаеву. Перебирая в памяти заблуждения и бури, волнения страсти и горечь своей петербургской жизни, он полон благодарности к далекому другу, но не за уроки политической мудрости благодарит он его:
Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства — может быть, спасенные тобою!
Не раз с более или менее сдержанной усмешкой, с растущим сознанием своей независимости отметал Пушкин наставления и поучения самых различных людей – Батюшкова, Кошанского, А. И. Тургенева, Пущина, даже Карамзина. Но с поразительной для молодой знаменитости благодарной скромностью вспоминает поэт об уроках самовоспитания, которые давал ему Чаадаев:
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Чаадаев всю жизнь гордился своей дружбой с поэтом и незадолго до смерти, в письме к Шевыреву, даже напомнил о своем на него влиянии: «Неужели встреча Пушкина в то время, когда его могучие силы только что стали развиваться, с человеком, которого он называл своим лучшим другом, не имела никакого влияния на это развитие?»