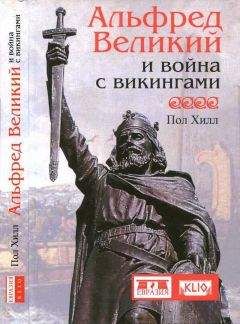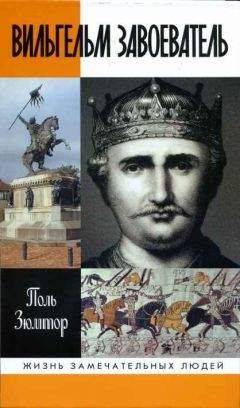Альфред Перле - Мой друг Генри Миллер
Анна, самая благоразумная шотландка на свете, которой я за многие годы все уши прожужжал об этом товарище моей юности и которая ревновала меня к Генри больше, нежели к любой женщине, сама тотчас же подпала под его чары. Я до сих пор не могу понять, в чем секрет его обаяния. Его «хм!» и «гм!» по-прежнему разили наповал, его удивительно резонирующий голос звучал все так же по-бруклински. Никто не сомневался, что он мудрец, хотя его мудрость, будучи неотъемлемой частью его личности, редко проявлялась в разговоре. Он никогда не изрекал ничего особо глубокомысленного, но это делало его воздействие на окружающих только более чудесным. Пожалуй, я могу назвать лишь одного человека, способного добиться того же результата, — это герр Пеперкорн из «Волшебной горы»{233}.
Вскоре мы уже слушали его рассказ о новой жизни в Биг-Суре. Он вел еще более уединенный и безмятежный образ жизни; помимо писательства, его главной заботой были Вэл и Тони — дети от предыдущего брака.
Интересно, сохранилась ли в нем былая жажда странствий? Я живо помню наши долгие разговоры на кухне в Клиши, когда он с упоением рассказывал о тех местах, где уже побывал, и о тех, которые пока только собирается посетить: духовные дела звали его в Индию и Китай, а в Тибете он планировал завершить свое земное странствование и раствориться в тонком эфире. В душе Генри, пожалуй, по-прежнему оставался все тем же сентиментальным путешественником, но у него уже не было вечной тяги к перемене мест — в кои-то веки он открыл для себя ту простую истину, что само по себе перемещение в пространстве абсолютно ничего не дает. Важно — во все времена — быть в гармонии с миром и вселенной, и прежде всего — с самим собой. Что толку ехать в Тибет, если Тибет повсюду, если ты сам себе Тибет!
Анна стала расспрашивать его о йеменском амулете. Это была тоненькая прямоугольная пластинка с надписью на иврите, изготовленная предположительно четыре столетия назад. Этой вещице, подаренной ему другом и шурином Шацем, Генри приписывал магические свойства и говорил, что с тех пор, как он надел этот талисман, у него не было ни одного неудачного дня.
— Я никогда его не снимаю, — объявил он.
— Даже в постели, — уточнила Эва, криво улыбнувшись, — я вся в синяках.
— Что поделаешь — побочный продукт страсти, — со смехом подхватила Анна. — Так, значит, этот амулет еще и повышает мужскую потенцию!
Генри рассмеялся. Генри готов был смеяться над чем угодно, особенно над собой, а смеялся он заразительно. Именно этот элемент самоосмеяния и подкупает в его чувстве юмора. Он посмеивался над тем, что ему вскоре придется пользоваться слуховой трубой, поскольку за последние сорок лет он стал туговат на левое ухо; он посмеивался над своими маленькими слабостями и чудачествами; может, в глубине души он посмеивался и над пресловутым талисманом, хотя внешне относился к нему со всей серьезностью. Только ребенок может смеяться так безудержно, как смеется Генри Миллер, — да в душе он и есть ребенок. В его обществе невозможно долго оставаться грустным или подавленным. Он будет из кожи вон лезть, чтобы только тебя развеселить, используя для достижения своей цели самые странные способы: то возьмется изображать енота, то сымпровизирует похоронную речь, затем расскажет какую-нибудь фантастическую историю и будет уверять, что как-то давным-давно слышал ее собственными ушами, хотя в действительности сочинял по ходу дела. А если и этого будет мало, он перевоплотится в морскую выдру, а в качестве заключительного аккорда растянется на полу в grand écart[247].
— Не странно ли, — заметил как-то Дельтей, — что все мы так околдованы Миллером, хотя, в сущности, он просто американец?
Вопрос был чисто академическим и не предполагал никакого злого умысла. Но он заставил меня унестись мыслями лет на тридцать назад, к нашей первой встрече с Генри, когда я нашел его на террасе кафе «Дом», где он сидел и тихо допивался до ручки, так как ему нечем было расплатиться по счету. Именно тогда я впервые услышал его импровизированную речь об Америке. Я вспомнил, какой странный душевный подъем вызывало во мне одно лишь звучание заморских названий, которыми так и сыпал Генри. Покипси, Мемфис, Амарилло, Мобил, Таксон, Чикамуга, Санта-Фе, Шайенн, Каламазу. Эти названия и по сей день звенят у меня в ушах. В те дни мир не был еще полностью американизирован, и этот далекий континент завораживал своей таинственностью; «золотой запад» не стал еще притчей во языцех. В моем представлении Америка была сказочной страной, чем-то вроде Африки, только повыше рангом, — неизведанным краем фантастических возможностей. Экономика не стала еще единственной заботой мира, помешанного на Практичности. Были еще какие-то шансы у романтики, была жива поэзия, и можно было наслаждаться ею не таясь, — это сейчас она превратилась в абстрактную теорию, о которой говорят и которой занимаются как-то отвлеченно. И Генри Миллер с его безмерным, анархичным и «многоканальным» энтузиазмом был первым американцем, с которым я столкнулся: он казался мне олицетворением всего, чем манила к себе Америка: ее надежд, ее обаяния, ее тайны. Non, mon cher[248] Дельтей, не вижу я ничего странного в том, что мы так околдованы Миллером, этим «просто» американцем!
Забавно, что в своих яростных нападках на Америку Миллер проявляет себя как истинный американец. И его энтузиазм, и его избыточность, и его ребячливость — чисто американского происхождения. Так писать или говорить не способен ни один европеец. Да Генри и не пытается скрывать, что он американец, — думаю, подсознательно он даже этим гордится.
За годы нашей долгой дружбы мне довелось наблюдать бесчисленные проблески его восхитительного американизма. Наивность и щедрость Генри выдавали его с головой. Сколько раз на моих глазах он одаривал королевскими дарами случайных знакомых, приходивших к нему поплакаться в жилетку. Он редко мог пройти мимо какого-нибудь уличного попрошайки, чтобы не ошеломить его, вручив пятифранковую монету, — это когда на пять франков можно было чуть ли не по-барски закусить в ресторане, — даже если это были его последние деньги! Он никогда не делил нищих на заслуживающих подаяния и незаслуживающих. Господь дал, Господь и взял. Чего уж проще. Свой план аренды земли он разработал задолго до того, как на арене появились Рузвельт или генерал Маршалл{234}. Генри — американец до мозга костей, причем самый типичный, что бы там ни говорили его соотечественники.
Мы не тратили драгоценного времени, любезно отпущенного нам благосклонной судьбой, на обременительные заумные беседы. Признаться, я даже забыл, о чем мы тогда говорили, — помню только, что мы были вместе и были счастливы. В такие моменты хронологический элемент становится менее четким и время приобретает призрачный характер. Все события тех дней я вижу довольно смутно. Вот мы сидим в открытом кафе и пьем чинзано, вот греемся на солнышке на пляже в Ситхесе, милях в двадцати от города, а вот снова проедаем себе путь сквозь горы шедевров испанской кухни и снова попиваем послеобеденный кофе в каком-нибудь уличном кафе на Рамбла. Но все это было продолжение одной и той же словесной баталии.