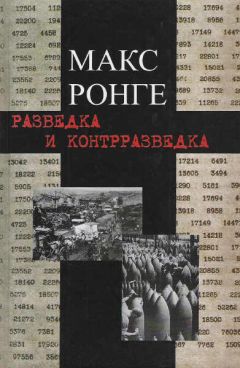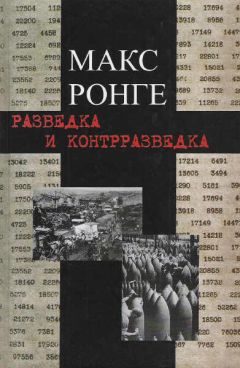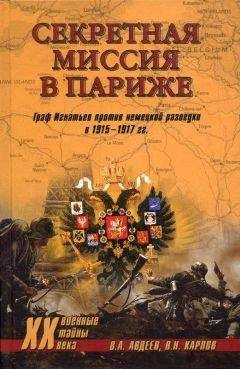Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни
— Французы, — сказал он, — теперь делают успехи, и к ним стоит присмотреться повнимательнее. Я очень стараюсь составить себе представление о современной французской литературе и, если представится случай, высказаться о ней. Интересно, что у них только-только приходят в действие элементы, которые для нас уже давно — дело прошлого. Правда, средний талант всегда оказывается в плену своего времени и поневоле питается элементами, в нем заложенными. У французов все, включая новейшую набожность, точь-в-точь как у нас, разве что проявляется это несколько галантнее и остроумнее.
— А что вы, ваше превосходительство, скажете о Беранже и авторе «Театра Клары Газуль»?
— Эти двое — исключение, — сказал Гёте, — это таланты выдающиеся, они опираются на самих себя, не поддаваясь влиянию времени.
— Мне очень приятно это слышать, — сказал я, — ибо у меня о них сложилось приблизительно такое же мнение.
Разговор с французской литературы перешел на немецкую.
— Сейчас я вам покажу нечто для вас интересное, — сказал Гёте. — Передайте мне один из тех двух томов, что лежат перед вами. Золъгер ведь знаком вам, не так ли?
— Конечно, — отвечал я, — и я очень его ценю. У меня имеются его переводы из Софокла, которые, так же как его предисловие к ним, внушили мне глубокое уважение.
— Он ведь умер много лет назад, — сказал Гёте, — а теперь издали полное собрание его сочинений и писем. Философские исследования, преподнесенные в форме Платоновых диалогов, не очень ему удались, но письма превосходны. В одном он пишет Тику об «Избирательном сродстве», я должен вам прочитать его письмо, так как лучше, пожалуй, нельзя высказаться об этом романе.
Гёте прочитал мае великолепный разбор романа, и мы, по пунктам, обсудили таковой, восхищаясь мыслями автора, свидетельствовавшими о широте его воззрений, а также последовательностью его обоснований и выводов. Хотя Зольгер и признает, что события в «Избирательном сродстве» определены врожденными свойствами действующих лиц, он все же очень отрицательно относится к характеру Эдуарда.
— Я не упрекаю Зольгера, — сказал Гёте, — за то, что он не терпит Эдуарда, я и сам его не терплю, но я должен был сделать его таким, чтобы могли развиться события романа. Вообще же это тип вполне правдоподобный, в высшем обществе встречается немало людей, у которых своенравие подменяет собою характер.
Выше других действующих лиц Зольгер ставит архитектора, ибо среди всех слабых и запутавшихся он один сохраняет силу и свободу духа. И самое в нем прекрасное, что он не только не запутывается в тенетах заблуждений, как все остальные, такой уж крупной личностью создал его автор, но и не способен в них запутаться.
Нам очень понравилось это меткое выражение.
— Как хорошо сказано, — заметил Гёте.
— Я всегда считал характер архитектора весьма значительным и достойным уважения, — сказал я, — но что он именно тем и хорош, что не способен попасться в сети любви, об этом я, по правде сказать, не подумал.
— Не удивляйтесь, — отвечал Гёте, — я и сам об этом не думал, когда его писал. Но Зольгер прав, есть в нем все это. Разбор Зольгера написан еще в тысяча восемьсот девятом году, — продолжал он, — и тогда я бы порадовался, услышав доброе слово об «Избирательном сродстве», меня ведь ни в ту пору, ни позднее никто хорошим отзывом не побаловал.
Зольгер, как я вижу по этим письмам, очень любил меня. В одном из них он жалуется, что я даже словечка ему не черкнул, когда он прислал мне свой перевод из Софокла. Бог ты мой! И как это со мной случается! Впрочем, никакого дива тут нет. Я знавал важных господ, которым много чего присылали. У них наперед были заготовлены формуляры и речевые обороты, так вот они и писали сотни одинаковых писем, в которых ничего не было — одни фразы. Я на это был не мастер. Если я не мог сказать в письме чего-либо дельного и подобающего, я предпочитал вовсе не писать его. Поверхностные обороты я считал, недостойными себя; так оно и получалось, что превосходный человек, которому я бы охотно написал, оставался без ответа. Вы же сами видите сколько всего мне шлют со всех концов, и должны признать, что даже для самых кратких ответов не хватило бы человеческой жизни. Но меня огорчает, что так вышло с Зольгером, он был прекрасным человеком и больше, чем многие другие, заслуживал дружеского слова.
Я перевел разговор на новеллу, которую с сугубым вниманием перечитывал дома.
— Все ее начало, — сказал я, — не более как экспозиция, в нем нет ничего, кроме необходимого, но это необходимое — обворожительно, нельзя даже подумать, что здесь оно предлагается читателю, кажется, будто все это существует само по себе и ради самого себя.
— Я рад, что вы так считаете, — сказал Гёте, — но одно я еще должен сделать, а именно: по законам хорошей экспозиции нужно, чтобы владельцы зверей появились уже вначале. Когда княгиня и дядюшка князя верхом проезжают мимо балагана, они выходят оттуда и просят осчастливить их посещением.
— Разумеется, вы правы, — сказал я. — Поскольку все остальное намечено в экспозиции, в ней должны появиться и люди, к тому же это вполне естественно, — хозяева зверинцев обычно сидят у кассы, и вряд ли они дадут княгине проехать мимо, не попытавшись заманить ее в свое заведение.
— Теперь вы видите, — сказал Гёте, — что в таком труде, если он в основном и закончен, частности еще требуют доработки.
Далее Гёте рассказал мне о некоем иностранце, который время от времени приходил к нему с сообщением, что он собирается переводить то одно, то другое из его произведений.
— В общем, он неплохой человек, — продолжал Гёте, — но в литературном отношении дилетант до мозга костей. Он еще и немецкого-то как следует не знает, а уже говорит о переводах, которые собирается сделать, и о портретах, которыми хочет иллюстрировать их. Сущность дилетантизма в том и заключается, что дилетант не понимает трудностей того, за что он берется, и всегда намеревается предпринять то, на что у него недостанет сил.
Четверг вечером, 25 января 1827 г.Взяв с собою рукопись новеллы и книжку Беранже, я около семи часов отправился к Гёте и застал его беседующим с господином Сорэ о новой французской литературе. Я с интересом слушал; речь, наконец, зашла о том, что новейшие поэты научились у Делиля писать хорошие стихи. Поскольку господин Сорэ, уроженец Женевы, не вполне владел немецким, Гёте же довольно свободно изъяснялся по-французски, то беседовали они на французском языке, переходя на немецкий, лишь когда я вмешивался в разговор. Я достал из кармана книжку Беранже и вручил ее Гёте, который хотел заново перечитать его прекрасные песни. Господин Сорэ нашел непохожим портрет, предпосланный стихам. Гёте приятно было держать в руках это изящное издание.