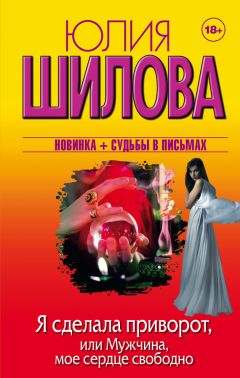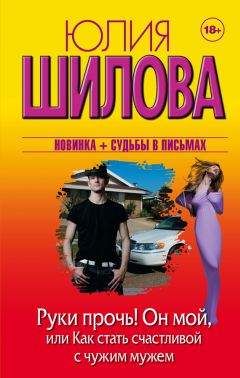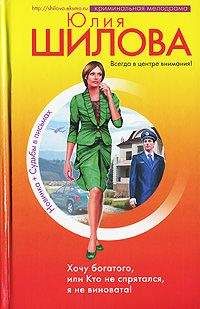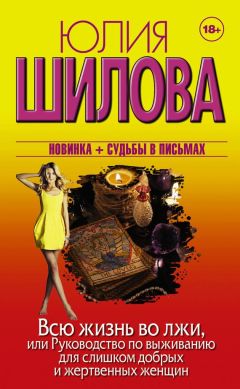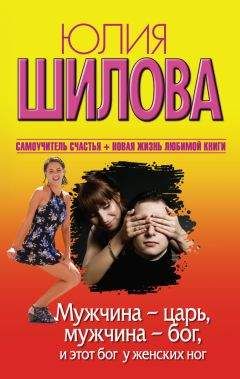Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни
Внучатая племянница Любови Орловой драматург Нонна Юрьевна Голикова сумела взять интервью у Раневской для передачи к 75-летию со дня рождения Любови Петровны. Маша — так звали Нонну Юрьевну ее друзья — пришла к Фаине Георгиевне после записи и сказала: «Все хорошо, но в одном месте нужно переписать слово „феномен“ — я проверила, — современное звучание должно быть с ударением в середине слова — „феномен“. Раневская переписала весь кусок, но дойдя до слова „феномен“, заявила в Машин микрофон: „Феномэн, феномэн и еще раз феномэн, а кто говорит „феномен“, пусть идет в жопу“.»
О своем позднем знакомстве с Раневской, о «сватовстве» пьесы Островского Театру имени Моссовета рассказывал Владимир Яковлевич Лакшин, многие годы работавший в «Новом мире» с Твардовским:
«Мы познакомились в доме Елены Сергеевны Булгаковой, наверное, в середине 60-х годов. К стыду моему, я до той поры не видел ее на сцене. Но комедийные роли ее в кино — в фильме „Пархоменко“, в чеховской „Свадьбе“, в „Весне“ — были, как у многих, у меня на памяти. Желая при первом знакомстве сказать нечто любезное, я вспомнил фильм „Подкидыш“, шедший перед войной. Реплика Раневской в этой картине — „Муля, не нервируй меня!“ — встречалась неизменным хохотом и стала бытовой поговоркой. Но едва я произнес за столом слово „Подкидыш“, как Раневская развернулась ко мне всем торсом и не слишком любезно смерила взглядом. Ее большие глаза выражали насмешливое удивление. „Только не вздумайте мне говорить об этом идиотском Муле…“ Мне пришлось прикусить язык.»
Разговор с Раневской, особенно поначалу, при далеком знакомстве, не был легок: услышит звучок не то что фальши, но просто привычной в обиходе банальности — и не пощадит. Обаятельная смелость ее речи, неожиданный юмор исключали обиходное ханжество. Не решусь сказать, чтобы в ней вовсе не было актерского и женского кокетства, но оно искупалось стремительной открытостью. Запретных тем в разговоре для нее, казалось, не существует. Она испытывала собеседника острой игрой ума, лукавой импровизацией, в том числе естественным, не грубым употреблением словечек, отсутствующих в салонном дамском лексиконе. Лишь впоследствии я догадался, что это было одним из средств преодоления природной застенчивости.
Стоило спросить ее, как она себя чувствует, и в ответ вы могли услышать: «Ужасно. Весна, а такой холод. Вы не находите, что наша планета вступила в климактерический период? Вы интересуетесь, что говорят врачи? Но хороших врачей нет. Они спрашивают, на что я жалуюсь. У меня воспаление наджопного нерва. Но жалуюсь я на директора театра. Он тринадцать лет не дает мне ролей».
Надоевшему своими расспросами собеседнику она объявляла в телефон: «Не могу больше с вам говорить, звоню из автомата…» — и тот, потрясенный, опускал трубку: неужели ему померещилось, что он сам набирал ее номер?.. […]
Прошло несколько лет после нашего знакомства, и Раневская неожиданно позвонила мне домой, прочтя изданную мной биографию драматурга Островского. Гудя в трубку низким, прокуренным голосом, она пустилась в воспоминания. Еще до революции, играя в летнем деревянном театре в Малаховке, она встретилась там на сцене с несравненной Ольгой Осиповной Садовской, ученицей великого драматурга, игрой и живоносной речью которой он восхищался. «Это в самом деле было чудо, — говорила Раневская. — И я всегда потом мечтала играть в пьесах Островского, произносить его слова, только случай выпадал редко». Раневская просила меня присоветовать Театру Моссовета какую-нибудь не слишком заигранную пьесу Островского, где нашлась бы роль и для нее. Я подумал-подумал и назвал комедию «Правда хорошо, а счастье лучше». Мне казалось, что Раневская может отлично исполнить центральную роль — властной старухи Барабошевой.
На другой же день Раневская позвонила мне в возбуждении: «Дорогой мой! Спасибо! Я ваша вечная должница. Нянька — это такая прелесть…» Какая нянька? Оказалось, ей куда больше по душе роль няньки Фелицаты — не «бенефисная», казалось бы, эпизодическая роль.
По настоянию Раневской пьесу приняли в репертуар, начали репетировать… И вскоре у меня дома появился как-то режиссер Сергей Юрский с большой банкой растворимого кофе в руках, подарком Раневской. Я смущенно отказывался, но она решительно возразила по телефону: «За удачное сватовство в Замоскворечье полагалось дарить свахе платок. Я слыхала, вы любите кофе, пусть это будет мой „платочек“ свахе».
Одновременно Раневская прислала билеты на спектакль со своим участием, как бы намекая, что мне пора основательнее познакомиться с ее искусством. Вот когда я посмотрел наконец трудно доступный даже для присяжных театралов спектакль «Дальше — тишина» с великолепным дуэтом Раневской и Р. Плятта. («Странную миссис Сэвидж» мне повезло увидеть на сцене прежде.)
Спектакль в духе старинной сентиментальной драмы, но, впрочем, вполне современный, был действительно хорош и вызвал единодушные восторги публики. Однако едва я попытался на другой день сказать это Раневской, как услышал яростное опровержение:
— Я ужасно играла вчера. Неужели вы были на этом спектакле? Какой стыд, что вы это видели! […]
«Три четверти ролей, какие я должна была играть, мною не сыграны, — говорила она. — Я была некрасива, заикалась, и режиссеры меня не любили. Они любили молодых и красивых. К тому же в молодости я была бездарна…» И на сыпавшиеся тут же возражения: «Да-да, это потом со мною случилось, что я стала кое-что понимать в искусстве. Но я еще не жила…» […]
В «Живом трупе» Раневской предложили сыграть роль матери Виктора Каренина — старухи Карениной. «Не знаю, как быть, — по обыкновению насмешливо отозвалась она. — Отказаться нельзя. Но и соглашаться опасно. Завтра вся Москва будет говорить: „Раневская сошла с ума, она играет Анну Каренину!“»
И снова переводила разговор на театр, на свою в нем судьбу: «Вы не поверите, в это трудно поверить, но ведь я стеснительна. Только когда выхожу на сцену, надеваю парик, платье чужое — становлюсь нахалкой, вроде бы это не я. А когда без всего этого — я застенчива и очень заикаюсь».
Я спрашиваю ее об Ахматовой. Обычно она охотно рассказывает о ней, к случаю. Но специально, по заказу, из нее не выдавишь ни словечка. «Зильберштейн просил написать о ней воспоминания для „Литературного наследства“. „Ведь вы, наверное, часто ее вспоминаете?“ — спросил он. Я ответила: „Ахматову я вспоминаю ежесекундно. Но писать о себе воспоминания она мне не поручала…“ А вообще не зря ее фамилия Горенко. Она была очень несчастна». Вот и весь сказ. […]
Неразделенная любовь — была темой и самой Раневской. «Все, кто меня любили, — сказала она однажды, — не нравились мне. А кого я любила — не любили меня». Так ли это было или не совсем так, я не знаю, но она воспринимала этот мир с напряжением неутоленного чувства счастья, и, может быть, оттого с такой правдой несла драму одиночества на сцене.