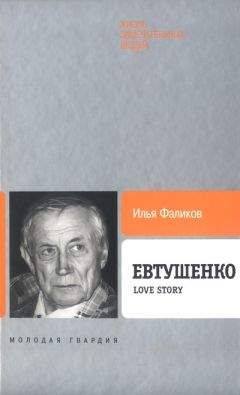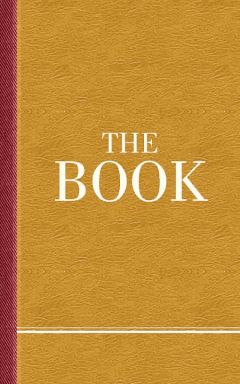Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень
Из «Роттердамского дневника»:
Отбарабанил положенное количество стихотворений, аплодировали. Пьяный, я хорошо читаю. Кроме своих, прочитал «У статуи Родена мы пили спирт-сырец — художник, два чекиста и я, полумертвец…» (Луговской. — И. Ф.). Проканало, никто ничего не понял, даже Рейн. Пошел в бар, взял пива и сел за столик.
Кейс Верхейл (Любовь остается: Вступительное слово к русско-голландскому сборнику Бориса Рыжего «Облака над городом Е» // Знамя. 2005. № 1):
Для начинающего поэта из русской глубинки участие в Роттердамском фестивале, ассоциирующемся с такими блестящими именами, как Иосиф Бродский, Александр Кушнер и Евгений Рейн, было феноменально почетным. Борис обрадовался возможности познакомиться с Западной Европой, но из-за стечения обстоятельств его июньское путешествие в Голландию обернулось разочарованием. Кроме своего родного языка он мог сказать всего несколько слов на плохом английском. Переводчику, представлявшему его на фестивале, поэзия Рыжего была явно чужда. От стресса из-за возникшего барьера он беспредельно много пил и впал в состояние депрессивной вялости, так что выступление его получилось крайне неудачным. После турне по роттердамским ночным кабакам у него на улице украли деньги, документы и фотоаппарат. Единственным положительным результатом этой поездки в Голландию стал написанный им вскоре рассказ, который его наследники опубликовали в «Знамени» весной 2003 года под названием «Роттердамский дневник». Впечатления от фестиваля перемежаются в этой прозе, самой пространной в наследии Рыжего, с горькими мыслями о собственной семейной жизни, с милыми сердцу воспоминаниями и с бурной сатирой на писательский мирок Екатеринбурга. <…>
Судить о душевном состоянии Бориса в месяцы перед его поездкой мы можем хотя бы отчасти по короткому электронному письму с датой 13 апреля 2000 года, которое я обнаружил в архиве Poetry International. В ответ на просьбу организаторов фестиваля выбрать одно свое стихотворение для прочтения на специальном вечере под названием «Оракул», где участникам предстояло изложить свои «предсказания, мысли, мечты, советы или намерения» насчет наступающего нового тысячелетия, Борис Рыжий посылает «Не покидай меня, когда» с посвящением «И. К.». А в сопроводительном письме он по-английски объясняет этот выбор так: «Посылаю Вам стихотворение о любви и смерти — чего же другого можно ждать от будущего».
«Роттердамский дневник» первоначально назывался «…не может быть и речи о памятнике в полный рост…» при почти параллельной публикации в четвертых номерах голландского журнала «The Flag» и «Знамени» за 2003 год.
Он издавна хотел написать аналог джойсовского «Портрета художника в юности»: о себе в своем городе. Получилось нечто пряное по фактуре и внешне размытое по композиции. Больше по законам стиха, нежели по правилам прозы. Проза Гандлевского (повесть «Трепанация черепа») и Набоков со стихами и прозой, пропитавший прозу Гандлевского, всегда привлекали Рыжего, и это сказалось на «Дневнике». Туманец импресьона покрывает довольно отчетливую — двухслойную — конструкцию: основная линия (пребывание на фестивале) сопровождается боковым нырянием в память, связанную с Екатеринбургом, точнее — со Свердловском: он так чаще всего называет свой город. Ну а там — детство, отец, семья, сестра Оля, жена Ирина, сын Артем, студенческая практика в Кытлыме, забубенные дружки: в основном целая повесть о Диме Рябоконе, каковой опять, как и в стихотворении «Море», отделен от самого себя полетом авторской фантазии. Это такая уловка Рыжего: называть персонажа своим именем, говоря о нем вещи, не имеющие к нему отношения, — таков у него и некий Саша Верников, со всеми чертами реального литератора А. Верникова, нарочно вывернутого в сторону вымысла. При этом он говорит, что реальность ему дороже вымысла.
Подобным образом он и в стихах играет с самыми близкими именами:
Одной рукой, к примеру, Иру
обняв, другою обнимал,
к примеру, Олю и взлетал
над всею чепухою мира.
Для убедительности в данном случае сюда привязана блоковская «мировая чепуха».
Это тот прием, которым он говорит прототипам: ребята, я вру, не обижайтесь, так надо. Нынешняя патентованная глупость о поэзии как частном деле им, естественно, не разделялась, но работал он зачастую на тех, кого знал в лицо. Это смахивает на «Петербургские зимы» Георгия Иванова, но у Иванова всё всерьез, а Рыжий явно веселится. Грустно веселится.
Причины грусти очевидны. Самая горькая — разлад в семье. Артем говорит: папа, если ты не уйдешь от нас, я подарю тебе белую лошадку с голубой гривой.
Что касается самого фестиваля, Рыжий не впадает в детали, не делает обобщений, круг его общения, описанный в «Роттердамском дневнике», весьма узок — африканский поэт Карл-Пьер, тайваньская поэтесса Шао Ю, а в основном — Евгений Рейн.
…Саша Леонтьев мне как-то передал слова Рейна о том, что настоящий поэт должен стать немного сумасшедшим. Я и говорю Рейну: а ведь, Евгений Борисович, как ни крути, а настоящий поэт должен научиться быть чуточку сумасшедшим. Борька, да ты и так сумасшедший, — смягчился Рейн, — тебе же сейчас читать, ты не смотри, что они улыбаются, эти люди всё замечают, всё, и не видать тебе больше Европы как своих ушей. Те же слова я слышал от Ольги Юрьевны Ермолаевой на одном помпезном московском мероприятии. Вот вам улыбаются, руку жмут, — сказала Ольга Юрьевна, — а вы не тайте, Борис Борисович, не тайте. И Олег Дозморов как-то отчитывал меня в этом роде: я не понимаю, почему ты так уверен в том, что никто тебе не может сделать подлость? А жена, когда я повадился прогуливаться по ночам, просто руками разводила: с чего ты решил, что тебя не убьют?
В очередной раз нырнув в прошлое, он дает эпизоды пребывания в «ду́рке», то есть в психбольнице:
Да один Петруха чего стоил со своими анекдотами, типа Пушкин с Лермонтом делят шкуру неубитого медведя, а к ним подходит Ломонос и говорит: эта шуба моя. Взял и унес. Смеялся над его анекдотами только я, за что и был Петрухою любим. Кроме того, я давал ему сигареты и закрепил за ним право съедать мой завтрак, обед и ужин — я лежал в палате с цыганом Вано, нам хватало гостинцев с воли. Вано хороший человек, мы созваниваемся с ним до сих пор, встречаемся, выпиваем, за жизнь разговариваем. А Петруха умер, однажды не проснулся, когда все проснулись, и всё. Ему было лет пятьдесят, худой и беззубый. Жаловался нам с Вано, когда его обижали. Старался не плакать, когда ставили уколы. Держался как мог. Натурально под мышкой унес санитар его маленькое татуированное тело. У Александра Кушнера есть такое стихотворение: «Всё нам Байрон, Гёте, мы как дети, знать хотим, что думал Теккерей. Плачет бог, читая на том свете жизнь незамечательных людей…» Далее у Кушнера бог поправляет очки и с состраданьем смотрит на дядю Пашу, который что-то мастерит, приговаривая: «этого-того». Этакий бог-педагог, немец наполовину. А на деле-то что получится? Вот придете, Александр Семёнович, дай вам Бог здоровья, к Нему с поклоном, а по правую Его руку дядя Паша сидит (хотя Вы, наверно, выдумали этого дядю Пашу), а по левую — мой Петруха. Много чего придется пересмотреть, о многом всерьез поразмыслить.