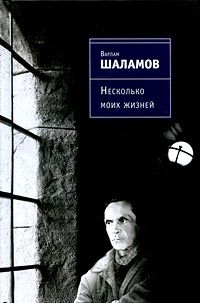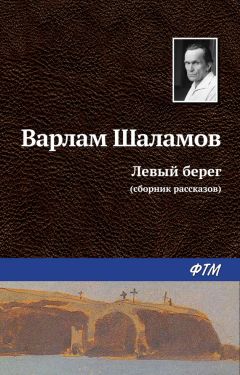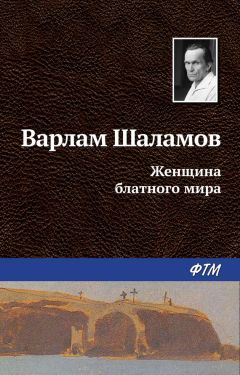Варлам Шаламов - Воспоминания
— Не пропускайте, читайте все. Вы не прочли «Опять Шопен не ищет выгод».
— Сегодня мне не хочется читать это стихотворение.
Начались «ответы на записки», любимая московская потеха. Для этих ответов такой «характер», как Маяковский, заготовлял и вопросы и ответы заранее. Это называлось — «домашняя подготовка». Кто лучше сострит, тот и прав. Кто лучше обхамил литературного противника — тот и победитель. Но с Пастернаком дело обстояло совсем не так. Он развертывал и читал вслух подряд все записки, которые передавались на эстраду, и сразу отвечал со всей серьезностью, без тени улыбки, боясь только одного: как бы не солгать, не покривить душой при ответе ради «красного словца».
Помню — был вопрос явно провокационный: «Какую пользу принесет литературе постановление о роспуске РАПП?» Борис Леонидович провел рукой по виску, — был он тогда почти не седой — и ответил: «Литература живет по своим законам, и после постановления снег не будет идти снизу вверх».
Много говорил тогда Пастернак о том, что он не будет больше писать стихов, будет писать только прозу…
Было все это в тридцать третьем году, или в конце тридцать второго — двадцать, стало быть, лет назад.
Борис Леонидович читал в двух шагах от меня на память. Цветаева когда-то написала, что не знает своих стихов наизусть, и объяснила, почему это происходит «Я слишком редко читала». Это замечание — правильное. Свои стихи надо учить, как чужие, и даже труднее запоминать, чем чужие, из-за вариантов, отвергнутых, выброшенных строк, строф и слов. Этой опасности нет при пользовании чужим текстом.
Я понял, что Пастернак тысячу раз уже повторил свои новые стихи — для себя ли, для близких, для знакомых читал ли — этого я не знал. Но любое стихотворение звучало без запинки. Все это были те самые стихи, которые после стали известны как «Стихотворения из романа в прозе».
Первым читалось «Половодье», «Мне далекое время мерешится», «Колыбельная» и «Август», коней которого затвердил я про себя тут же. «О плате и хмеле», «Русская сказка».
— «Сказка» — ваша тема, — сказал Борис Леонидович.
Пирушки наши — завешанья,
Чтоб теплая[65] струя страданья
Согрела холод бытия.
В. Т. — Я когда-нибудь напишу рассказ, как я за вашим первым письмом ездил в пятидесятиградусный мороз, пересаживаясь с оленей на собак и с нарт— на автомобиль. Пять суток я ездил за этим письмом.
Б. П. — …В ответе вашем на мое большое письмо мне больше всего понравилось суждение о рифме. Рифма — как поисковый инструмент поэта — это очень верно, очень хорошо. Теперь очень любят ссылаться на авторитеты. Так вот — это пушкинское определение рифмы.
…— Понимание искусства надо выстрадать. Самой важной перепиской такого рода для меня была переписка с Цветаевой — она все это очень тонко, очень больно понимала и чувствовала. Вот мне приходится читать статьи искусствоведа нашего Алпатова — учено, книжно, а не выстрадано, не выболено и потому — холодно, мертво. Огромный личный опыт, такой, как у вас, поможет вам найти правильный путь.
Я пытаюсь объяснить, чем был для нас Пастернак на колымской каторге, в заключение пытаюсь объяснить, почему стихи Пушкина или Маяковского не могли быть той последней нитью, соломинкой, за которую хватается человек, чтоб удержаться за жизнь — за настоящую жизнь, а не жизнь — существование…
Как Орлов, бывший референт Кирова, читал вечером в бараке накануне расстрела:
Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм
(…)
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капели вешней дребедень.
Б. П. — Маяковский? Разве вы не видите, что из него сделали теперь? Хорошо, что вы не знаете «Охранной грамоты».
«Охранную грамоту» я знал чуть ли не наизусть, но промолчал.
— Как много плохого принес Маяковский литературе — и мне, в частности, — своим литературным нигилизмом, фокусничеством. Я стыдился настоящего, которое получалось в стихах, как мальчишки стыдятся целомудрия перед товарищами, опередившими их в распутстве…
— Вы не знаете языков?
В. Т. — Нет, в нашем поколении знание иностранных языков считалось чуть ли не подготовкой к шпионажу. Во всяком случае отягощало «обвинение» при случае… Почти столь же тяжкое преступление, как иметь родственников за границей.
— Когда будет наконец время печатать то, что думаешь? — спрашивает он сам себя и вздыхает. — Я был на пленуме, послушал. К голосовым упражнениям такого рода можно привыкнуть года за два. Сидят и твердят, как заклинание: «Нам нужна хорошая драматургия! Нам нужна хорошая драматургия». Это похоже вот на что: по улице идет молодой человек и все ему желают хороших внуков, и он твердит, что хочет хороших внуков. А ему надо думать о детях, а не о внуках. Надо получить жизнь хорошую, тогда будет и хорошая драматургия.
Было ощущение, что грозная пелена спала, и казалось, что люди, как у Андерсена, заколдованные в жаб, будут опять превращаться в людей. Но время идет, а жабы в людей что-то не расколдовываются…
Павел Васильев — вот кто был истинно талантлив из молодежи. Это — клюевский ученик, а Клюев был настоящим поэтом. Большим поэтом.
В. Т. — Воронская Галочка, дочка Александра Константиновича, была на Колыме как «ЧС».
— Я это тоже все знаю. Как «член семьи». Ужасно. Александра Константиновича я знал и относился к нему с великим уважением. Позвольте спросить вас о Мандельштаме, о его судьбе.
В. Т. — Знаю только с чужих слов, что Мандельштам умер в 1938 году во Владивостоке, на пересылке, не попав на Колыму, куда его везли. Остался «должен» лет десять.
Б. П. — У нас нет Льва Толстого. Под силой его гения росло много писателей.
В одном из своих писем вы написали, что я обратился к евангельским темам. Но ведь дело не в евангельских темах, а в том удивительном соответствии реальности, жизненного тона с каким-то с детства известным сказочным событием, перекличка душевная с чувствами и мотивами…
— Я так это и понимал и писал отнюдь не осуждающе.
— В ваших письмах было очень интересное для меня замечание о том, что поэтические идеи Пастернака близки поэтическим идеям Анненского, это совершенно верно, хотя никто никогда мне этого не говорил. Иннокентий Анненский — мой учитель.
— Вместе с Блоком…
— Блока мы все боготворили. Тогдашние молодые. Блок был всеобщий кумир. Но заражались от Блока жертвенностью, святостью поэтического долга, бурей чувств. Я находил у Анненского ряд тончайших замечаний, которые подсказывали пути, по которым никто ещё никогда не ходил. Я писал уже вам, что я хотел бы уничтожить все из старого, за исключением «Февраль, достать чернил и плакать», «Был утренник, сводило челюсти», и написать по-новому, где деталь, подробность была бы столь же весома, как у Анненского или Льва Толстого.