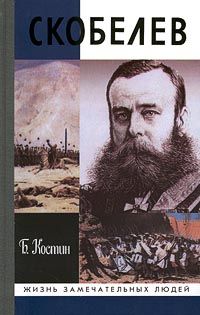Валерий Есипов - Шаламов
Новая больница располагалась в 500 километрах от Магадана, ближе к основным приискам. Большое трехэтажное кирпичное, т-образное здание, построенное перед войной в поселке Дебин — сразу за новым мостом через Колыму — казалось каким-то фантомом в этом диком краю, какой-то крепостью или замком. Оно предназначалось для размещения воинской части, так называемого «Колымского полка», который призван был охранять стратегически важный район в годы войны. После победы над Японией полк передислоцировали, а казарму передали под главную больницу УСВИТЛага. Начальником больницы был снова назначен М.Л. Дактор, а в персонал вошли многие из тех, кого уже знал Шаламов по 23-му километру, — хирург В.Н. Траут, окулист Ф.Е. Лоскутов, заведующий лабораторией А.И. Бойченко и др. Из бывших курсантов на Левый берег взяли немногих, и для Шаламова его первое назначение — старшим фельдшером хирургического отделения — было особой честью.
«Я чувствовал себя — впервые на Колыме — необходимым человеком: больнице, лагерю, жизни, самому себе, — писал он. — Я чувствовал себя полноправным человеком, на которого никто не мог кричать и издеваться…»
Эта метаморфоза, полный переворот его жизни, чудесное спасение, о котором он никогда не мечтал, — произошло в декабре 1946 года. До 20 октября 1951 года, дня своего официального освобождения, о чем свидетельствует запись в первой его «вольной» трудовой книжке («20/Х-1951 г. — зачислен на должность старшей операционной сестрой хирургического отделения Центральной больницы УИТЛ "Дальстроя"»), то есть пять лет, с небольшим перерывом, он пробыл на Левом берегу, в этом сохранившем навеки свой казарменный дух здании. Оно вмещало 1200—1300 больных, располагавшихся по профильным отделениям, с коридорами и отсеками, с обязательной охраной на выходах.
Поразительно, что на протяжении всех пяти лет Шаламов практически никогда не выходил из больницы, не только зимой (что понятно — здание всегда хорошо отапливалось), но и летом. Причины этого пыталась объяснить врач-хирург Елена Александровна Мамучашвили, прибывшая в больницу в 1947 году и проработавшая вместе с Шаламовым до 1952 года.
Она писала: «Первое время как заключенному это было ему запрещено, а затем он, видимо, привык к этому положению и не хотел унижаться перед охраной на вахте, ведь на каждый выход требовалось разрешение»[45].
Жил, вернее, спал Шаламов прямо в отделении, в бельевой. Так было принято в больнице, многие спали в кабинетах, где работали, хотя были и комнаты-общежития. Вероятно, Шаламов сознательно выбрал уединенный образ жизни и был им доволен. Литература? Чтение? Это, конечно, имело значение, потому что библиотека в больнице собралась неплохая, но для чтения — только краткие часы перед сном. Как вспоминала та же Е.А. Мамучашвили, у Шаламова был огромный круг обязанностей по отделению — он как старший фельдшер был фактически его хозяином — для всех, включая заведующего отделением, бывшего фронтового хирурга А.А. Рубанцева. Шаламов отвечал за порядок, и порядок в палатах, операционных и перевязочных был, по условиям больницы, идеальным. Его добросовестность все врачи очень ценили, единственный, кто постоянно придирался к Шаламову, — вездесущий «доктор Доктор».
Из своей жизни в больнице сам Шаламов особо выделял литературные, поэтические беседы, которые проходили вечерами, после ужина и поверки в маленьком помещении перевязочного отделения. Этим вечерам посвящен его рассказ с символическим названием «Афинские ночи», где писатель, споря с создателем знаменитой «Утопии» Т. Мором, а также и с 3. Фрейдом, говорил о не учтенной ими человеческой потребности (вслед за утолением голода, полового чувства, дефекацией и мочеиспусканием) — потребности в стихах. Только стихи возвращают в призрачный волшебный мир, который для интеллигента в лагере — реальнее и важнее любой повседневности. Собственно, участников «афинских ночей» было трое — сам Шаламов и его двое новых больничных знакомых: бывший киевский киносценарист, фельдшер-заключенный Аркадий Добровольский и бывший московский актер, поэт Валентин Португалов, выполнявший в больнице, тоже в статусе заключенного, роль культорга. Иногда на вечера допускались в качестве слушателей и другие люди, в основном врачи и фельдшерицы, тоже испытывавшие потребность в стихах.
Суть вечеров была в том, что все трое, оказавшись поклонниками русской лирики начала XX века, читали стихи любимых поэтов. «Взнос» Шаламова был в основном тем же, что и в тетрадях, записанных для Н.В. Савоевой, но с добавлением И. Анненского, В.Хлебникова, А. Белого и В.Каменского. «Взнос» Португалова — Н. Гумилев, О. Мандельштам, А.Ахматова, М. Цветаева, из классиков — Лермонтов и Ап. Григорьев, которого, как отмечал Шаламов, «мы с Добровольским знали больше понаслышке». «Доля» Добровольского — Маршак с переводами Бернса и Шекспира, Маяковский, Ахматова, Пастернак — до последних новинок тогдашнего «самиздата», как писал Шаламов (имея в виду, что первый ташкентский вариант будущей «Поэмы без героя» А. Ахматовой был прочтен Добровольским, которого снабжали литературными новинками его знаменитые друзья кинорежиссер И. Пырьев и актриса Л. Ладынина, снявшие фильм «Богатая невеста» по сценарию А. Добровольского и Е. Помещикова).
Самое важное, что вкусы и предпочтения у всего больнично-поэтического триумвирата удивительным образом совпадали и ни у кого не было стремления к лидерству. Правда, Е. Мамучашвили, которую допускали иногда на «афинские ночи», замечала, что Шаламов держал себя немного «над» другими и, когда говорил, «интонация его была очень серьезная, менторская». Все это объяснимо: Шаламов был старше своих друзей и коллег, он обладал более весомым опытом — и лагерным, и литературным. Со всеми, с кем его соединила судьба в больнице на Левом берегу, он сохранял потом добрые отношения.
Особенно заинтересовала его тогда личность Георгия Демидова — нового фельдшера-рентгенотехника. Тот редко выходил из своего кабинета, но при доверительных встречах тет-а-тет оказывался удивительным собеседником. Демидов прямо и смело говорил обо всем, что происходило и происходит на Колыме и в стране. Он был талантливым физиком из Харькова, где работал вместе с Л. Ландау. Арестовали его в начале 1938 года по доносу об «антисоветских высказываниях», и Демидов прошел в полной мере следовательский конвейер с применением «метода № 3», получив срок десять лет. На Колыме он не застал самого страшного 1938 года, но пребывание в предвоенные и первые военные годы на общих работах на прииске Бутугучаг было не менее тяжким. Именно Бутугучаг, где заключенные работали по 20 часов и от голода вынуждены были поедать трупы (Демидов говорил об этом на следствии по своему второму делу 1946 года), родил у него сравнение: «Колыма — Освенцим без печей».