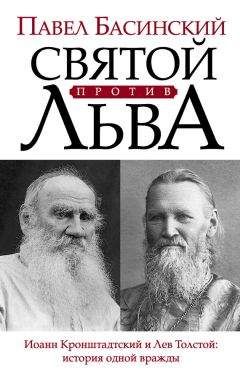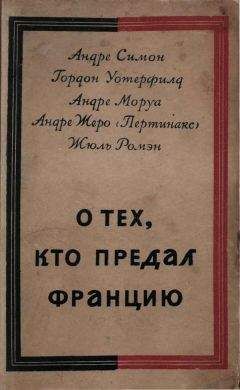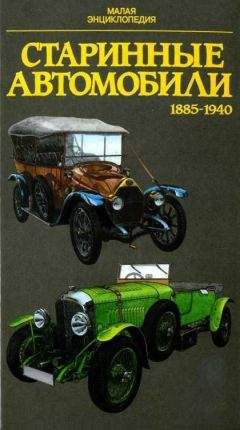Павел Басинский - Лев Толстой: Бегство из рая
Новый философско-религиозный трактат «В чем моя вера?» (1884) он уже и не надеется опубликовать после того, как из майского номера журнала «Русская мысль» за 1882 год была «вырезана» «Исповедь». Трактат набирается за деньги Толстого в количестве пятидесяти экземпляров в типографии Кушнерева, а после запрещения и ареста, наложенного на это издание духовной цензурой, расходится в Петербурге в высшем свете по рукам. Это уже «самиздат».
С.А. откровенно напугана перспективой быть женой диссидента. «Маракуев (издатель. – П.Б.) сказал, что книгу твою новую цензура светская передала в цензуру духовную; что архимандрит, председатель цензурного комитета, ее прочел и сказал, что в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он с своей стороны не видит причины не пропускать ее, – сообщает она в январе 1884 года. – Но я думаю, что Победоносцев с своей бестактностью и педантизмом опять запретит».
Разумеется, запретил. Но в данном случае куда важнее отношение к этой книге жены Толстого. В это время она готовит к изданию собрание сочинений мужа и определенно недовольна тем, что его новые «сочинения» издаются и распространяются помимо нее.
«Кушнерева (владельца типографии. – П.Б.) застала больного, в халате; он ужасно извинялся, но мне нужно было добиться экземпляров, и я его спросила. Он говорит – вот моя карточка, а спросите у Маракуева. Но вчера вечером я посылала к Маракуеву Сережу (сына. – П.Б.); но Маракуев очень просто объявил, что так как все очень интересуются этим произведением, то он их все роздал для чтения и переписки. Я так рассердилась, что сегодня поехала сама и говорю ему, что „экземпляры не ваши, а графа, и он вас не просил и не уполномачивал их раздавать. И допустите, что родные, близкие графа, если не больше, то по крайней мере имеют одинаковые права интересоваться его произведениями“. Он обещал мне привезть завтра два; но ты не сердись на меня, я еще более удостоверилась, что он крайне наглый человек, и с ним надо быть осторожнее», – с возмущением сообщает она в январе 1884 года в Ясную Поляну. Это уже крик души писательской жены, которая впервые сталкивается с тем, что посторонние люди вклиниваются в семейные интересы, имея на новые произведения ее мужа какие-то свои права.
«То, что служило Толстому во благо, теперь обратилось для него во зло, – пишет Владимир Жданов. – То, что делало семью счастливой, – духовная, творческая жизнь Льва Николаевича – теперь делает семью несчастной. Прежде он и семья взаимно питали друг друга, теперь их интересы противоположны, связь оборвана, и они вступили в борьбу, защищая каждый свое право на жизнь, временами ожесточаясь, временами примиряясь и срываясь опять».
Наиболее откровенно семейная драма Толстых объясняется в воспоминаниях Ильи Львовича, которому в тот момент было тринадцать-четырнадцать лет. Это самый трудный подростковый возраст, так называемый «переходный». И, может быть, потому-то перелом, происходивший в его отце, был так живо прочувствован сыном, что сам Л.Н. в это время ведет себя как взрослый подросток.
«Он, идеализировавший семейную жизнь, с любовью описавший барскую жизнь в трех романах и создавший свою, подобную же обстановку, вдруг начал ее жестоко порицать и клеймить; он, готовивший своих сыновей к гимназии и университету по существующей тогда программе, начал клеймить современную науку; он, ездивший за советами к доктору Захарьину и выписывавший докторов к жене и детям из Москвы, начал отрицать медицину; он, страстный охотник, медвежатник, борзятник и стрелок по дичи, начал называть охоту „гонянием собак“; он, пятнадцать лет копивший деньги и скупавший в Самаре дешевые башкирские земли, стал называть собственность преступлением и деньги развратом; и, наконец, он, отдавший всю жизнь изящной литературе, стал раскаиваться в своей деятельности и чуть не покинул ее навсегда».
«Но что должна была переживать в это время моя мать! – пишет далее Илья Львович. – Она любила его всем своим существом. Она почти что создана им. Из мягкой и доброкачественной глины, какою была восемнадцатилетняя Сонечка Берс, отец вылепил себе жену такою, какой он хотел ее иметь, она отдалась ему вся и для него только жила – и вот она видит, что он жестоко страдает, и, страдая, он начинает от нее отходить дальше и дальше, ее интересы, которые раньше были их общими интересами, его уже не занимают, он начинает их критиковать, начинает тяготиться общей с ней жизнью. Наконец, начинает пугать ее разлукой и окончательным разрывом, а в это время у нее на руках огромная и сложная семья. Дети от грудных до семнадцатилетней Тани и восемнадцатилетнего Сережи.
Что делать? Могла ли она тогда последовать за ним, раздать всё состояние, как он этого хотел, и обречь детей на нищету и голод?
Отцу было в то время пятьдесят лет, а ей только тридцать пять. Отец – раскаявшийся грешник, а ей и раскаиваться не в чем. Отец – с его громадной нравственной силой и умом, она – обыкновенная женщина; он – гений, стремящийся объять взглядом весь горизонт мировой мысли, она – рядовая женщина с консервативными инстинктами самки, свившей себе гнездо и охраняющей его.
Где та женщина, которая поступила бы иначе? Я таких не знаю ни в жизни, ни в истории, ни в литературе.
В этом случае мою мать можно пожалеть, но осуждать нельзя. Она была счастлива в первые годы своей замужней жизни, но после 1880-х годов счастье ее померкло и никогда больше не возвратилось.
Но больше всего, конечно, страдал сам отец».
В это время С.А. пишет брату: «Если бы ты знал и слышал теперь Левочку. Он много изменился. Он стал христианин самый искренний и твердый. Но он поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был».
«Левочка всё работает, как он выражается, – с тревожной иронией пишет она сестре, – но, увы, он пишет какие-то религиозные рассуждения, чтобы показать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь».
Легко поймать С.А. на слове, чтобы доказать, насколько нечуткой она была к духовным поискам мужа и как ошиблась в прогнозе о «десятке» людей, которые этим заинтересуются. Но поиски Толстого в это время вызывали недоумение также у Фета и Тургенева, и даже такой наиболее близкий по духу человек, как Страхов, был с ним во многом несогласен. Наконец, духовный переворот вызвал серьезный конфликт между Л.Н. и его теткой А.А. Толстой, той самой, которую С.А. привыкла считать на голову выше себя.
С.А. поддержала ее родня. 3 марта 1881 года (через два дня после убийства царя, после которого Толстой встал на открыто диссидентский путь) она пишет сестре, что гостивший в Ясной Поляне брат Александр Берс нашел в Л.Н. «перемену к худшему, т. е. боится за его рассудок». От себя она прибавляет, что «религиозное и философское настроение самое опасное».