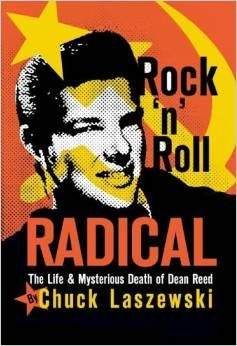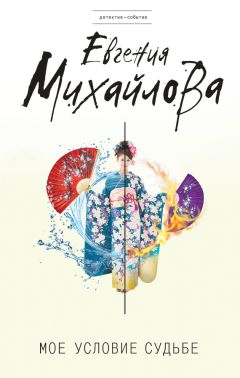Иван Панаев - Литературные воспоминания
Пробило 11 часов, а Чижов не появлялся. Нас потребовали в публичную залу. Я соскочил с окна с радостным криком:
– Господа! господа! Чижова уж, верно, не будет!
Но Чижов вдруг, как будто выросший из-под пола, очутился передо мною.
У меня помутилось в глазах и я чуть не упал…
По списку я стоял шестым. В отметке против меня значилось, что я имею отличные сведения в математике.
Вызывали по два воспитанника разом: один отвечал, другой приготовлял ответ на доске.
Дошла очередь до меня. Я подошел к экзаминаторскому столу, вынул билет, развернул его и прочел громко, ничего не поняв.
Инспектор наш, человек очень добрый, даже нежный, мягким и ласковым голосом сказал мне:
– Покуда будет отвечать г. X, вы нам, душенька, и изложите на доске то, что у вас в билете.
«Да, легко сказать – изложить!», подумал я и подошел к доске, взял мел, снова развернул зачем-то билет и прочел его, хотя знал, что это совершенно бесполезно. В отчаянии я начал чертить на доске какую-то геометрическую фигуру.
Товарищи мои знаками вызвали Шелейховского и сказали ему, чтоб он помог мне. Шелейховский подкрался к моей доске и начал подсказывать мне, робко озираясь…
– Ну, вы понимаете дальше? – шепнул он мне.
– Ничего я не понимаю и ничего не знаю, – сказал я, опуская мел.
– Как! Так вы ничего не знаете! – с ужасом громко воскликнул Шелейховский.
На это восклицание Чижов и инспектор обратились ко мне.
– Что такое? Извольте прочесть ваш билет, – сказал мне строго Чижов.
Я прочел.
– Ну-с, отвечайте.
Я изложил кое-как подсказанное мне Шелейховским, беспрестанно путаясь, и остановился…
– Что же далее? Я молчал.
Чижов предлагал мне тысячу вопросов; он мучил меня, бог знает для чего, около часа. Я стоял безмолвно, едва удерживая слезы и печально опустив руку, в которой держал мел…
Чижов наконец оставил меня, пожал плечами и обратился с досадою к Шелейховскому.
– Каким же образом вы показали, что он имеет отличные сведения, когда он понятия ни о чем не имеет? И это выпускные воспитанники, получающие университетские права! – продолжал Чижов, придравшись к своей любимой теме и обращаясь к инспектору. – Что же я поставлю такому господину? Он, верно, прочит себя в гусары, а либо в уланы…
Инспектор был очень огорчен за меня и начал что-то вполголоса говорить Чижову, но Чижов строго и упорно качал головою.
– Мне до этого нет дела, – отвечал громко Чижов, – в моем предмете я все-таки обязан поставить ему нуль.
В отчаянии, со стыдом и со слезами на глазах и весь в мелу, вышел я из публичной залы, вошел в класс, бросился на скамейку и зарыдал.
Ко мне подошел Павлов, один из товарищей, бывший на отличном счету у начальства, которому он очень ловко подслуживался. Павлов учился на 10-й класс; папенька обещал ему подарить рысака, если он выйдет десятым классом. «Способностями бог его не наградил» и даже не дал доброго сердца. При весьма ограниченном уме и способностях он был пропитан лицемерством и лестию.
При виде моего отчаяния Павлов скорчил добродушную и вместе плачевную гримасу и произнес со вздохом:
– Мне ужасно жаль тебя, братец! Ведь с нулем тебя не выпустят из пансиона. А мне так Чижов поставил четыре, теперь уж я непременно выйду десятым классом!
С таким же утешением он не совсем удачно подошел к другому воспитаннику, с характером гораздо решительнее моего и также получившему нуль в математике. Воспитаннику с решительным характером не понравилось участие товарища и он нанес ему очень значительную неприятность, которую тот перенес с похвальным смирением и кротостию.
Эти добродетели, в соединении с лестью и лицемерием, были, говорят, полезны для него на служебном поприще, так же как и в школе. И здесь и там он достиг того, к чему стремился: при выпуске – награжден правом на чин 10 класса и рысаком, а на службе – чином действительного статского советника и званием камергера… Теперь у него не один рысак, а целый завод орловских рысаков, лента через, плечо, золотой мундир с ключом сзади, которым он щеголяет в торжественные дни в своем губернском городе, во время отпусков, стоя на губернских выходах об руку с губернатором и предводителем дворянства. Он величественно говорит: «У нас при дворе… Мы опора трона, наши права…» и тому подобные блестящие фразы.
Обратимся, однако, к экзамену. Горесть моя начинала мало-помалу смягчаться и утихать, по мере того как мои товарищи возвращались с экзамена в таком же положении, как я, то есть: с нулями в экзаминаторском списке и с отчаянием в сердцах. Таких возвратилось уже человек до четырех. «Ну, по крайней мере не один я». Эта мысль утешила меня. После обеда, поободрившись, я отправился в публичную залу. Был уже шестой час. Оставалось человек недоэкэаменованных пять. Чижов был в самом свирепом расположении. Шесть нулей красовалось уже на листе. Поставив последний нуль при самом моем входе в залу, Чижов обратился к Шелейховскому с вопросительной иронией:
– Что же это такое, наконец?
Шелейховский схватил себя за голову, взъерошил волосы и вскрикнул каким-то отчаянным, раздирающим голосом:
– Боже мой! да чем же я виноват? Что мне с ними делать?..
Но это еще были цветочки, – ягодки впереди.
Передпоследним Чижов вызвал Татищева. Татищев был сын богатого помещика, провинциального аристократа, необыкновенно довольного собой, гордившегося тем, что у него в гербе княжеская корона, и оравшего во все горло. Он часто являлся в пансион к сыну и возбуждал своим криком и манерами общий смех… Сын очень походил на отца, кричал так же громко и хвастал перед товарищами своим богатством и своей княжеской короной. Товарищи обращались с ним как с шутом, но, несмотря на это, любили его, потому что он был до крайности наивен и добр. Он написал однажды сочинение для Кречетова, которое начиналось так:
«Солнце склонилось к западу. Был прекрасный и тихий вечер. Филомела пела, а соловей свистал…»
С этой «филомелой» потом не давали ему прохода.
Отец объявил ему, что если он получит 10-й класс, то он будет выдавать ему в год по 5000 руб. асе., если 12-й – 2500 руб., а если 14-й, то 1200 руб. Татищев учился на 5000 руб., как ему это было ни тяжело. Он зубрил с утра до ночи, мучился и все-таки отставал от других, почти ничего не делавших… Но вдруг за полгода до выпуска отец его умирает скоропостижно. Матери у него давно не было. Татищев делается полным властелином своих богатств и перестает учиться…
– Из-за чего я стану теперь себя мучить? – говорил он нам. – Сами согласитесь, теперь мне все равно, каким классом ни выйти. Я завишу сам от себя и буду издерживать, сколько хочу.
И когда учителя спрашивали его уроки, он вставал обыкновенно с своего места, корчил плачевную гримасу и произносил, всхлипывая: