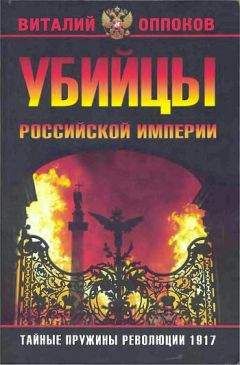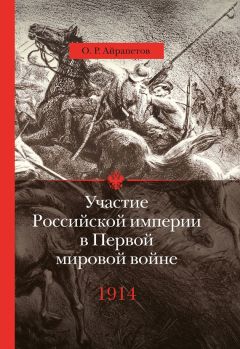Юрий Нагибин - Якопо Тинторетто
Географическое положение царицы Адриатики и все многочисленные выгоды — экономические, политические, военные, религиозные, — которые оно давало, очень долго помогали «Яснейшей республике» оставаться «самым цельным и организованным из европейских государств, могучим оплотом христианства». Венеции хватило еще на два века; «когда вся остальная Италия была уже в полном разложении, Венеция (и только она) могла дать такого атлета жизни, как Казанова, такого жизненного писателя, как Гольдони, и таких истинно великих художников, как Гварди и Тьеполо» (Александр Бенуа).
Но все-таки ветер вселенского разлада тревожил безмятежные воды венецианских каналов в середине шестнадцатого века, когда сын красильщика Робусти заиграл могучей мускулатурой Тинторетто. Человеку с чуткой душой трудно, даже невозможно сохранять олимпийское спокойствие во взбаламученном мире, оставаясь безучастным зрителем чужих страстей и чужих бед. Не знаю, какая душа была у великого Паоло Веронезе, но ему это удавалось. Его блистательные, пышные, роскошные полотна и фрески создавались будто посреди Эдема, и отрешенность их от бурь времени никак не отразилась на высочайшем качестве живописи. И ныне они все так же восхищают глаз, не затрагивая души. Холодное великолепие. Впрочем, это хорошо, что искусство такое разное. Якопо Тинторетто не обладал (по счастью) столь невозмутимым духом, он был открыт всем тревогам и волнениям времени. Смело отбросив традиции венецианской школы с ее лиризмом, изобразительной солидностью, преданностью натуре, заботой об «иллюзионности» и вещественности, он стал творить свой собственный мир из света и тьмы, свободно населяя картины призраками, а не телами, отбросив всякую заботу о правдоподобии, хватая жизнь навскидку и не пренебрегая ничем. Учитель Эль Греко в чистой духовности, предшественник Рембрандта в царстве светотени, далекий предтеча импрессионистов, он, пленник своего времени, стал заложником вечности. Пробив толщу веков, ступил в наши сумрачные и невероятные дни. Тинторетто — из нашей боли, тревоги, сомнений, нашей слабости и бесстрашия перед вечной тайной.
О жизни Тинторетто мало известно. Сын красильщика, родился в Венеции, где и прожил почти безвыездно всю свою семидесятишестилетнюю жизнь. Впрочем, одно путешествие, уже в преклонные годы, он предпринял: со всей семьей съездил в Мантую по приглашению герцога Гонзага, чтобы проследить за развешиванием заказанных ему картин. Легко представить себе хлопотные сборы, волнения домашних, озабоченность самого мастера, которому впервые предстояло ступить на Большую землю. Путь его, наверное, лежал через Падую и Верону; видел ли он творения Джотто, слышал ли легенду о бедных влюбленных Ромео и Джульетте? Так хотелось бы хоть каких-то человеческих радостей вечному труженику…
А что, если динамическая мощь творений Тинторетто — следствие его обделенности движением? Есть домоседы, байбаки, лежебоки, для которых покой — счастье, а есть мобильные, быстрые люди, для которых ограниченность в движении — страдание. В Венеции с ее улочками-щелями меж крошечных площадей не разгуляешься. Тут нет простора ни для пешей, ни для конной прогулки. Пожалуйте в гондолу, на засаленные плоские подушки, а там даже жеста резкого себе не позволишь. Тоска неподвижности изживала себя в вихревом движении, закручиваемом на холсте. Быть может, из той же тоски — летящая живопись Тьеполо?
Меня мало греет легенда о том, что старый Тициан отказал Тинторетто в руководстве, испугавшись, что тот его превзойдет. Это рассказывают о многих художниках: Верроккьо, мол, вовсе бросил живопись, после того как его ученик Леонардо да Винчи вписал ему в картину ангела.
Другая легенда: он лепил из воска маленькие фигурки, одевал их и писал при разном освещении. То же самое говорят об Эль Греко. Возможно, это правда, хотя совпадение выглядит нарочитым. Но радует как несомненная и значительная черта Тинторетто — отказ от титула рыцаря, который ему готов был присвоить Генрих III Валуа, посетивший Венецию на пути в Польшу. Разве мог быть титул выше, чем «маленький красильщик»? Вечный труженик знал-таки себе цену.
Не представляются убедительными и многочисленные попытки «выводить» Тинторетто из Корреджо или Пармиджанино, хотя этот манерный художник оказал огромное и дурное влияние на живопись шестнадцатого столетия. Если Тинторетто устоял перед Микеланджело и Тицианом, верность которым декларировал, то стоит ли тревожить тени куда меньших? Другое дело, что он решал подчас сходные с Корреджо задачи — скажем, в плафонной живописи. Но ни картин, ни фресок певца Леды никогда не видел.
Мне известны два портрета Тинторетто. Возможно, их существует больше. Молодой портрет примечателен необычайно проницательным, каким-то пронзающим взглядом больших черных глаз. Но это еще не Тинторетто. У русского философа и писателя Василия Розанова есть рассуждение о том, что внешность человека полностью совпадает с его внутренней сутью лишь в определенный период жизни. У кого в молодости, у кого в зрелые годы, у кого в старости. Поэтому можно сказать: «Это еще не Достоевский» — или: «Это уже не Тургенев». Портрет старого Тинторетто я вычислил заранее, увидев его репродукции, лишь когда писал этот очерк. Вот тут Тинторетто был в фокусе.
Был замечательно одаренный, широко образованный и, как положено в Стране Советов, невостребованный человек Александр Габричевский, близкий друг Бориса Пастернака, пианистов Генриха Нейгауза и Святослава Рихтера. Он носил ни к чему не обязывающее и ничего не дающее звание члена-корреспондента Академии архитектуры, писал по искусству и почти ничего не мог напечатать. Мне однажды попалась его интересная статья о портретной живописи, кажется, так и не опубликованная. Он утверждал и убедительно доказывал, что каждый портрет одновременно и автопортрет.
Меня всегда поражали в огромной портретной галерее Тинторетто его удивительные старики. Чувствовалось, что он особенно охотно пишет старость, когда личность человека отлилась в окончательную форму, достигла предельной выразительности, пусть и в ущерб тем привлекательным свойствам, которыми дарит юность. Самым замечательным в этих стариках была непреклонная печаль глаз. Не могли же Тинторетто попадаться модели только с такими глазами! Значит, он наделял их собственными глазами, точнее, выражением своих глаз. Это и было тем элементом автопортрета, о котором писал Габричевский. А какие же еще глаза могли быть у человека, не страшившегося заглядывать в последние бездны?..
После всего, о чем здесь говорилось, увидел ли я по-иному Христа на главном полотне братства Сан Рокко? Нет, я так и не узнал в молодом атлете, пригвожденном к кресту и с некоторым любопытством смотрящем вниз, на всеобщую суету, Иисуса «Крещения», «Искушения», «Тайной вечери», «Воскресения», «Крестной ноши». Или Тинторетто представлялось, что дух Спасителя уже отлетел, осталась лишь безразличная плоть? Или он просто не сумел изобразить Сына Божия на кресте, обезоруженный пассивностью позы?.. Не знаю. Это так и осталось для меня тайной. Но может быть, это правильно? Ведь скучно, когда все тайны разгаданы…