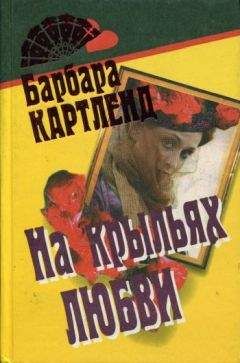Олег Антонов - На крыльях из дерева и полотна
1930. Ночное дежурство
В юности мы везде дома. Не нужно комфортабельной мебели, мягкой постели, не нужно даже крыши и стен. Вся страна — мой дом. Над головой — тёплое, чёрное, усеянное неспешно мерцающими звёздами небо. Там, где обрывается звёздная пыль, угадывается могучая каменная спина Горы. Вдали толпятся огоньки Насыпкоя. Ещё дальше — слабое-слабое свечение:
это за ближайшими отрогами залитых лунным светом Крымских гор спит Феодосия. Воздух вокруг меня звенит, пронизанный свистящими трелями цикад. Я ночной дежурный слёта. Кончен бурный, напряжённый, натянутый, как струна, лётный день. Шумная толпа планеристов — кто на грузовиках, кто просто пешком — весёлой лавиной унеслась в Коктебель. Тихо. Длинные, узкие, тускло поблёскивающие в лунном свете крылья, как огромные клинки, пересекают во всех направлениях тени неглубоких балок северного склона Горы с замершими в них на короткий ночной отдых планерами.
Ниже по склону, в двадцати шагах от меня — наш «Город Ленина». За ним «Скиф», «Комсомольская правда», «Гамаюн», «Гриф», «Бриз», «Красная звезда», «Папаша» и многие, многие другие. Дальше — большая брезентовая палатка-мастерская, полоса пашни, увалы, безбрежная степь. Вдруг в бездумную трескотню цикад врывается совсем иной, хлопотливый, ритмически нарастающий шум.
Идёт машина. Вот блеснули фары. Машина останавливается недалеко от палатки. Из неё выходит человек. Он идёт по направлению ко мне. Конечно, это кто-то из наших, но кто? Подождём. Неясно различимая, но такая знакомая-знакомая фигура приближается, останавливается, видимо, пытаясь сориентироваться в сумерках среди крылатого хаоса лагеря. Потом, наверное, найдя то, что нужно, решительно направляется к нашему «Городу Ленина», обходит планёр вокруг и, остановившись у хвоста, слегка толкает его вытянутой рукой в киль. Киль, расчаленный к крылу четырьмя тонкими стальными тросами, не поддаётся нажиму. Фигура нажимает сильнее. «Б-б-у-у-у-у…» — басово гудит задетый рукою трос.
Ба! Да ведь это Сергей Владимирович Ильюшин, известный конструктор самолётов и планеров, председатель техкома слёта! Теперь вспоминаю, как горел днем жаркий спор в техкоме: жёстко или не жёстко укреплено оперение на нашем планёре? И можно ли крепить оперение на длинной, но большого сечения балке, работаю щей на изгиб только в вертикальной плоскости, а от кручения и поворота в сторону удерживаемой четырьмя тонкими тросами, идущими к заднему лонжерону крыла? Спорили, переходили к другим вопросам, спорили снова, спорили, видимо, и по пути из лагеря в Коктебель, пока, наконец, очередной особенно бурный всплеск спора не вынес в начале ночи председателя техкома в лагерь, к килю «Города Ленина». Сергей Владимирович стоял около киля, как бы оценивая и размышляя. Вся его фигура выражала какую-то неуловимую степень недоумения, несогласия с очевидностью прямого и непосредственного опыта.
Но вот, как будто что-то взвесив, Сергей Владимирович решительно наваливается плечом на верхний узел киля. Снова ворчат тросы. На этот раз от решительного толчка качнулось поднятое к небу крыло. Раздумье. Поворот. И характерной походкой волевого человека, обдумывающего что-то на ходу, Сергей Владимирович возвращается к машине. Фыркает мотор, автомобиль подаёт назад, разворачивается и, отмахнувшись от лагеря жёлтыми лучами фар, скрывается за складкой горы так же неожиданно, как и появился. Снова тихо. Снова огромное, бесконечно глубокое небо над ещё тёплой землёй. Как легко дышится в степи! А глаза слипаются, клонит ко сну. И сквозь дремоту мне чудится лёгкая улыбка на рябоватом лике луны.
…На другой день, под авторитетным напором председателя, техком открыл дорогу в воздушные просторы длиннокрылому «Городу Ленина».
1930. Кисть и перо
Он появился на гребне южного склона неожиданно, как сияющее белое облачко, с длинным посохом в руке. Внимательно и неторопливо вглядывался он в смуглые мальчишеские лица задорных строителей «летающих драконов». Была какая-то особенная ласковость в прикосновении его тёплой ладони, в пожатии большой и сильной руки, руки многоопытного отца, с улыбкой наблюдающего забавы резвящихся детей своих. Ветер тихонько перебирал его седые кудри и складки свободной белой одежды. А глаза, светлые и глубокие, с доброжелательным интересом смотрели на людей и на просторы сияющего мира. Его жена, заботливо опекавшая каждый его шаг, светилась гордостью, представляя нам его, такого большого и человечного.
Переполненные бьющей через край энергией, всегда спешащие, мы были поражены этим явлением из другого мира, мира, полного спокойного созерцания. И за игрой ветра и шумом крыльев, секущих солнечные лучи, не заметили, как исчезло белое облачко с посохом, точно растворилось в светлых просторах окоёма.
И вот я в таинственном, похожем на башню доме, рассечённом внутри площадками, крутыми лестницами вдоль стен; в доме, пронизанном светом, прошумлённом прибоем, провеянном всеми ветрами широкого морского залива. Приветливый хозяин, садится за столик с наклонной доской. Кусок плотной бумаги увлажняется, голубеет под точными, уверенными прикосновениями кисти, такой послушной в атлетических руках могучего старца.
Капли текут, сливаются, разъединяются снова. Вот кисть, позвенев о стенки хрустальной чаши и напитавшись тончайшей смесью красок, разливает по лазури мерцающее сияние. Точно розовоперстая Эос зажигает в небе радостный праздник утра. Ещё несколько прикосновений кисти — и внизу липа возникают могучие вековые складки горных хребтов, иссечённых оврагами, обнажающими древнее чрево земли.
А волшебная кисть вновь и вновь касается то влажного, то просыхающего листа, с непостижимым мастерством создавая из прихотливого сочетания пятен фантастические видения, поражающие своей поэтической силой. Вот вырастает хоровод деревьев и кустов, воздевающих горе свои ветви-руки. Еще несколько касаний кисти — и на глади залива выстраиваются волны, поющие медленную кантилену. Свет пронизывает и небо, и морс, и, казалось бы, самые камни романтического пейзажа, прекрасного, как услышанная в детстве сказка.
Я стоял не двигаясь, почти не дыша, впитывая каждое мгновение совершавшегося на моих глазах таинства искусства. А он словно и забыл обо всём, безраздельно захваченный своей колдовской мощью творца. Потом взял перо и нашим в правом верхнем углу листа:
«Розовый вечер.
Стеклянные волны.
А по холмам — хороводы кустов.
Максимилиан Волошин
1930. Страшные морды