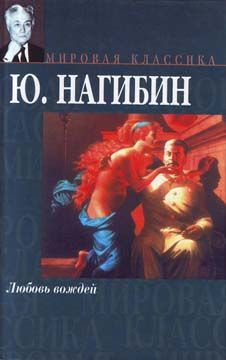Юрий Нагибин - Вермеер Дельфтский
«Скончался же он при следующих обстоятельствах, довольно легкий приступ уремии послужил причиной того, что ему предписали покой. Но кто-то из критиков написал, что в „Виде Дельфта“ Вермеера (представленном гаагским музеем голландской выставке), в картине, которую Бергот обожал и, как ему казалось, отлично знал, небольшая часть желтой стены (которую он не помнил) так хорошо написана, что если смотреть только на нее одну, как на драгоценное произведение китайского искусства, то другой красоты уже не захочешь, и Бергот, поев картошки, вышел из дома и отправился на выставку. На первых же ступенях лестницы, по которой ему надо было подняться, у него началось головокружение. Он прошел мимо нескольких картин, и у него создалось впечатление скудности и ненужности такого надуманного искусства, не стоящего сквозняка и солнечного света в каком-нибудь венецианском палаццо или самого простого домика на берегу моря. Наконец он подошел к Вермееру; он помнил его более ярким, не похожим на все, что он знал, но сейчас благодаря критической статье он впервые заметил человечков в голубом, розовый песок и, наконец, чудесную фактуру всей небольшой части желтой стены. Головокружение у Бергота усилилось; он впился взглядом, как ребенок в желтую бабочку, которую ему хочется поймать, в чудесную стенку. „Вот как мне надо было писать, — сказал он. — Мои последние книги слишком сухи, на них нужно наложить несколько слоев краски, как на этой желтой стенке“. Однако он понял всю серьезность головокружений. На одной чаше весов ему представилась его жизнь, а на другой — стенка, очаровательно написанная, желтой краской. Он понял, что безрассудно променял первую на вторую. „Мне бы все-таки не хотелось, — сказал он себе, — чтобы обо мне кричали вечерние газеты как о событии в связи с этой выставкой“.
Он повторял про себя: „Желтая стенка с навесом, небольшая часть желтой стены“. Наконец он рухнул на круглый диван…»
Вот как надо вглядываться в картины Вермеера, чтобы они отдали вам всю сконцентрированную в них красоту.
Считается, что Пруст в образе Бергота вывел Анатоля Франса, который ему покровительствовал и пользовался в ту пору гипертрофированной репутацией умнейшего и своеобразнейшего писателя Франции. Именно таким выглядит Бергот у Пруста. Остроумная, хотя и вяловатая проза Франса не давала оснований для подобного возвеличивания. Берготом на деле оказался сам Пруст. Но сейчас нам важно другое: в концепции романа Бергот — гений. И этот гений едва не пропустил собственной смерти, завороженный желтым цветом Вермеера. Вот что такое дельфтский сфинкс!
О желтом, красном и коричневом у Вермеера можно писать исследования, но еще лучше — стихи. Когда же Вермеер дарит холсту голубое, хочется благодарить Создателя за ниспосланную благодать.
Литература сильно проникла в живопись, «маленькие голландцы» насквозь литературны, как и русские передвижники, как и адепты академического стиля всех мастей, — они рассказывают; но случается, истинно большие мастера тоже прибегают к языку другого искусства: Рубенс, Делакруа. Вермеер — это торжество живописи, он не знает иного языка, кроме цвета и света.
Но художник такого масштаба не бывает просто функцией отпущенного свыше невесть за какие заслуги дара, в данном случае — невероятно сильно чувствовать свет и цвет мира и уметь воссоздавать солнечное великолепие на холсте. Он еще личность, человек, через которого проходит предельно чувствительный нерв бытия. Вермеер всей кровью ощущал преходящесть, мотыльковую краткость людей вокруг себя, так тянущихся к наслаждению, труду, созерцанию всей «краткой радости дышать и жить», чувствовал собственную хрупкость и недолгость и не мог быть безмятежно веселым, бездумным, не мог полностью раствориться в настоящем. Отсюда таинственный налет печали на его солнечном искусстве. Отсюда такая близость нынешней душе его замерших посреди далекого прошлого фигур.
Мне бы хотелось закончить рассказ о Вермеере одной маленькой историей, случившейся со мной недавно. В истории этой нет ничего важного и поучительного, но, думается, любой штришок к несуществующему портрету художника чего-то стоит.
В последние годы у нас то и дело возникают новые издания, исчезающие так же быстро, как и появились. Иногда им удается выпустить один-два номера газеты или журнала, прежде чем уйти в небытие. Не знаю сам почему, но я предпочитаю этих эфемеров традиционным органам печати. Наверное, мне, человеку кабинетному, импонирует легкий дух авантюрного предпринимательства. Недавно, откликнувшись на очередной призыв, я отправился по указанному адресу в Южин переулок, в самом центре Москвы, неподалеку от площади Пушкина. Удивительно, что я, коренной москвич, не только никогда не бывал в этом переулке, но даже не слышал о нем. В адресе настойчиво подчеркивалось: «строение номер 5», что также было непривычно: как правило, ограничиваются номером дома. Все это настроило меня на таинственный лад. Ожидания оправдались, я попал в московское зазеркалье.
Тут царила странная пустынность, выключившая коротенький переулок из суматошливого городского центра. Пешеходы и машины исчезли, старый кирпичный, почерневший от времени дом с заветным номером и названием улицы казался необитаемым.
Я вылез из машины и вошел в подъезд, с усилием оттолкнув глухую дверь на ржавой тугой пружине. Подъезд не был освещен, но откуда-то сверху сочился тощий, бледный, нездоровый свет. Когда глаза привыкли, я обнаружил лестницу, металлические перила и пошел вверх по обшарпанным ступеням, опирая руку о леденящий холод перил. Второй пролет подвел меня к темному коридору. И опять таинственная световая сочь позволила углядеть двери: высокие — деревянные, низенькие — обитые жестью… Последние были без ручек и, похоже, никуда не вели. Первая же деревянная дверь со старинной медной ручкой легко поддалась нажиму и впустила меня в холодную, смрадную щель со стеллажами, заставленными папками. Несло плесенью и сопревшей бумагой. Неприятный живой шорох наполнял спертый воздух хранилища. Я настроил себя на крепкий, бодрый испуг, но ко мне подкрадывался какой-то гаденький ужасик. Я выскочил в коридор.
Я толкнулся в двери еще двух-трех пустующих смрадных помещений и вдруг попал в населенность и свет. Я вздрогнул не только от неожиданности. Мне показалось, будто я вселился в полотно Вермеера. Помните его «Географа» и «Астронома»? Это ведь один человек, только по-разному освещенный. И скупые приметы научных трудов разные: у одного — циркуль, у другого — небесный глобус. Сейчас странный человек дельфтского тайнописца предстал передо мной в яви. В густых тенях казалась бесплотной тощая, сутулая фигура молодого ученого, рыжекудрого и лупоглазого, со вздернутым готическим носом. Он был не то в ученом халате, не то в рясе, остроконечная шапка на рыжих кудрях напоминала клобук. Он повернул ко мне свое аскетическое лицо с выражением приниженного высокомерия и заинтересованной отчужденности.