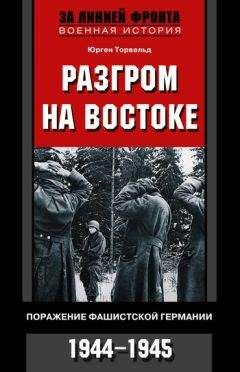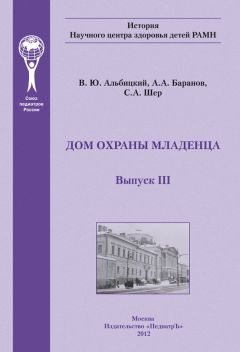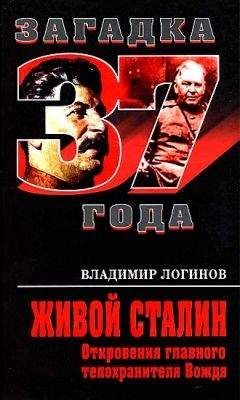Рейнхольд Эггерс - Кольдиц. Записки капитана охраны. 1940-1945
Решение суда в 1941 году очень усложнило положение дел в Кольдице. Оно стало не только упреком коменданту, раньше приказывавшему записывать и наказывать нарушителей в деле по отданию чести, но и выявило расхождения во мнениях среди нас, четырех немцев, которые в качестве лагерных офицеров (или дежурных офицеров) находились в постоянном контакте с пленными. Мы присутствовали на ежедневных построениях, устраивали (проводили) обыски, отбирали бесчисленные просьбы, «инспектировали» занимаемое ими помещение и так далее. Нашим делом было наметить стандарт дисциплины, делом коменданта — его установить.
К сожалению, и у нас четверых бытовали двойные стандарты. В то время я был ЛО-3 (лагерным офицером 3). ЛО-1 являл собой энергичную и яркую личность. Он любил сражения, любил жизнь, слыл большим шутником, не гнушался выпить и, по мнению англичан, единственный обладал чувством юмора. Иногда он называл их «и так далее». На построениях он объявлял французов, бельгийцев, голландцев, поляков «und so weiter»[7]. Однажды британцы устроили эстрадное представление в театре с группой «Und so weiter». Этот офицер не очень беспокоился о дисциплине, в жестком военном смысле этого слова. Как и я, он был школьным учителем и думал, что знает, как обращаться с лагерными «плохими мальчиками».
ЛО-2 был капитаном кавалерии, взрывался при малейшей провокации, как очень скоро обнаружили пленные, и буквально синел в эти минуты. Он страдал от смертельно высокого кровяного давления. В отношениях со своими подопечными ЛО-2 признавал только жестокость и насилие.
Что же касается меня, ЛО-3, то я не был за мир во что бы то ни стало, но скорее снова ощущал себя в положении школьного учителя, справляющегося с непослушными школярами. Я знал, что главной целью непокорного класса всегда было вызвать у обладающего властью лица гнев, каковы бы ни были последствия. Кроме того, я понимал, что, если выйду из себя, проиграю сражение. Однажды я сказал старшему британскому офицеру: «Я никогда не дам вам, джентльменам чести, вывести меня из равновесия. Корректное поведение в рамках конвенции или нашего собственного дисциплинарного кодекса — вот мой курс. Обо всем, что ваши офицеры сделают с целью оскорбления меня, я доложу. Что случится потом, не мое дело». Невероятно, но все эти четыре года меня без конца провоцировали горячие офицерские головы всех национальностей, возрастов и званий. Снова и снова я начинал свирепеть, но тут же брал себя в руки. Нелегко терпеть откровенную наглость, но немой вызов иногда бывает стерпеть еще труднее.
ЛО-4 придерживался примерно того же мнения, но нас четверых отнюдь нельзя было назвать согласованной командой.
Я не солгу, если скажу, что, по крайней мере, в Кольдице не было времени скучать. Поработав, мы уловили некую систему, но эту систему мы навязали себе сами, хотя, по всем правилам, скорее должны были бы задавать тон, нежели следовать ему. Заключенные играли с нами в извечную чехарду. Сначала лидирующее положение занимали мы со своими запретами и заграждениями, потом они, сообразив, как их обойти. Все, что военнопленные делали, говорили или думали, было нацелено на то, чтобы получить преимущество либо немедленное, либо через какой-то промежуток времени.
Если, как результат побега или попытки побега, мы изменяли свою политику и предпринимаемые нами меры или вводили какой-нибудь новый план, они улавливали суть быстрее, чем наши люди, которые, в конце концов, имели и другие дела, кроме часов дежурства в замке. Большинство же пленных находились «на дежурстве» все время; другой жизни у них не было.
Еще одна трудность в поддержании безопасности касалась нашего основного лагерного штата, в частности унтер-офицерского состава. Чем дольше они оставались в замке, тем лучше узнавали пленных и их приемы. И тем больше увязали во взяточничестве (сигареты, шоколад или кофе); между персоналом и узниками возникали фамильярные, приятельские отношения. Другим слабым местом являлось неудобство, которое любой немец низшего звания чувствует в общении с офицерами любой национальности. А если мы заменяли этих унтер-офицеров другими, новоприбывшими на их место, требовались месяцы, чтобы обучиться секретам ремесла, а в течение этого времени пленные успевали извлечь всю возможную выгоду из этого ведения.
Все военнослужащие унтер-офицерского состава в Кольдице имели прозвища, о чем они знали, и это их забавляло. Так, у нас был Карапуз — человечек невысокого роста, о которых часто говорят «от горшка два вершка» (Dreikasehoch); Полицейский; Гайавата, который скорее воображал из себя бог весть что, пока однажды не обнаружил, что его товарища звали Миннегагой; Большая Задница; Тетушка; Квартирмейстер — он служил в Кольдице до самого конца; Хорек (по-французски Fouine) — известный среди англичан как Диксон Хоук — очень опытный в разнюхивании туннелей; Муссолини — наш фельдфебель, отвечающий за ординарцев, — старый солдат еще Первой мировой, который ненавидел всех офицеров, даже своих собственных!
На этих людей и, разумеется, общую массу караульных не могли не произвести впечатления активная жизнь замка и выходки, которые периодически выкидывали пленные. Но больше всего их поражали успехи в побегах, которых тем удавалось достичь. Все это отражалось на нас, их офицерах, выставляемых некомпетентными и беспомощными.
В феврале 1941 года лагерь начал заполняться. Пара сотен французских офицеров прибыла под командованием генерала Лё Блё, не скрывавшего своей неприязни ко всему «boche»[8]. В марте нам доставили шестьдесят голландских офицеров. Многие из них были полукровками, прибывшими из Ост-Индии. Это были образцовые военнопленные. У них не было своих ординарцев, но они сами убирали свои помещения. Их дисциплина была непогрешима, их поведение на построении примерным, и из него, как мы увидим далее, они сумели извлечь некоторую пользу. Кроме того, они всегда опрятно и элегантно одевались. Поляки вели себя похожим образом, хотя и не могли похвастаться наличием бритвенных туалетных приборов (несессеров) для придания своей внешности должной опрятности и изящества.
Но французы и англичане! На построение они являлись в пижамах, не брились, шлепали в сабо и тапочках, курили, читали книги, одевали то, что первое попадалось им под руку, когда они вставали с постели, — просто напрашивались на то, чтобы их подняли на смех. Они настаивали на разграничении «построений» и обычных перекличек, как, например, на день рождения короля: в этот день они появились неузнаваемо подтянутыми. Очень быстро мы поняли, что их небрежность была напускной, хотя иногда они все вели себя искренне, как мальчишки.