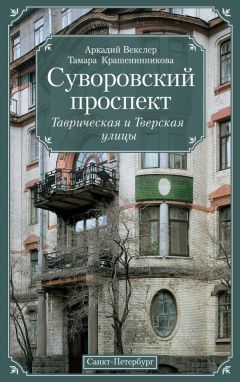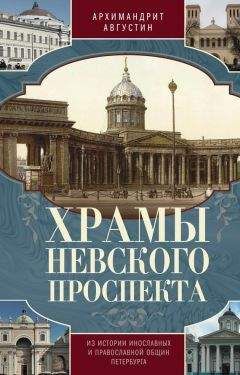Александр Николюкин - Розанов
Деревянный домик, где жила вдова Розанова с детьми, стоял в Костроме около Баровкова пруда (ныне на этом месте расположена площадь Мира). Жили в бедности, в нищете. Окончательная нужда настала, когда лишились коровы. «До тех пор мы все пили молочко и были счастливы». Огород был большой, и с семи лет Василий работал на нем. Особенно тяжела была прополка картофеля и поливка его. И еще — носить навоз на гряды, когда подгибались от тяжести носилок ноги. Вообще жизнь была физически страшно трудная, вспоминает Розанов, — «работа» и тут же «начало учения».
В жизни дома ближайшее участие принимал Воскресенский — семинарист-нигилист, «народник-базаровец», как назвал его Розанов: «Мама, невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старою — бессильною — несчастною любовью. Он кончил семинарию, был живописец, и недурной, — ездил в Петербург в Академию художеств. Может быть, он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все слишком его ненавидели. Он, впрочем, меня порол за табак („вред“ куренья). Но „ничего не мог поделать“»[27].
Пока была коровка, были сметанка, творог, сливочное масло. Молоко Василий носил к соседям продавать, как и малину, крыжовник и огурцы из парников. Но вот коровка «умерла». «Она была похожа на мамашу и чуть ли тоже „не из роду Шишкиных“, — вспоминал Розанов в старости. — Не сильная. Она перестала давать молока. Затвердение в вымени. Призвали мясника. Я смотрел с сеновала. Он привязал рогами ее к козлам или чему-то. Долго разбирал шерсть в затылке: наставил и надавил: она упала на колени и я тотчас упал (жалость, страх). Ужасно. И какой ужас: ведь — КОРМИЛА и — ЗАРЕЗАЛИ. О, о, о… печаль, судьба человеческая (нищета). А то все — молочко и молочко. Давала 4–5 горшков. Черненькая… „как мамаша“».
Воспоминания детства, как всегда, роятся больше к старости. И чем ближе к смерти, тем они ярче и неотвязнее. Однажды в Костроме проживавший у них землемер послал Васю купить десяток сухарей.
«Я побежал. Молодой паренек лавочник, от хорошей погоды или удачной любви, отсчитав пять пар, — бросил в серый пакет еще один:
— Вот тебе одиннадцатый.
Боже, как мне хотелось съесть его. Сухари покупали только жильцы, мы сами — никогда. На деснах какая-то сладость. Сладость ожидания и возможности. Я шел шагом. Сердце билось.
— Могу. Он мой. И не узнают. И даже ведь он мне дал, почти мне. Ну, при покупке им и бросив в их тюрюк (пакет). Но это все равно: они послали за десятью сухарями, и я принесу десять.
Вопрос, впрочем, „украсть“ не составляет вопроса: воровал же постоянно табак. Что-то было другое: достоинство, великодушие, великолепие. Все замедляя шаг, я подал пакет. Сейчас не помню, сказал ли: „тут одиннадцать“. Был соблазн — сказать, но и еще больший соблазн — не сказать. И не помню, если сказал, дали ли (догадались ли они дать) мне 11-й сухарёк. Я ничего не помню, должно быть от волнения. Но эта минута великолепной борьбы, где я победил, — как сейчас ее чувствую» (376).
Василий рос молчаливым, замкнутым в себе мальчиком. «С детства, с моего испуганного и замученного детства, я взял привычку молчать (и вечно думать). Все молчу… и все слушаю… и все думаю… И дураков, и речи этих умниц… И все, бывало, во мне зреет, медленно и тихо… Я никуда не торопился, „полежать бы“… И от этой неторопливости, в то время как у них все „порвалось“ или „не дозрело“, у меня и не порвалось, и, я думаю, дозрело» (71).
И Розанов вопрошает: «Отчего я так люблю свое детство? Свое измученное и опозоренное детство» (244). Ведь, когда дети играли, он все носил на носилках навоз в парники («руки обрывались, колени подгибались»), потом поливал («легче, но отвратительно, что, вытаскивая ведра из прудика, всегда заливал штаны»), затем полол. Мальчику было семь — девять лет. И труд был всегда без улыбки, без доброго слова — «каторжный» (340).
Однажды Васю послали «погостить» к учителю русского языка в Костроме Николаю Семенычу Мусину, у которого была семилетняя дочь Катя. Тщетно он показывал мальчику какой-то немецкий атлас с гербами, коронами и воинами. Вася держался за стул и плакал. Ему были непереносимы их крашеные полы и порядок везде, красота. В своем доме было холодно, не метено и полы не крашены. Но хотелось домой.
Так как рев не прекращался, Васю отправили домой. «Дома был сор, ссоры, курево, квас, угрюмость мамаши и вечная опасность быть высеченным». Но это был «дом», хотя в нем и не было «гармонии» (198).
Все несчастья, казалось, исходили от матери. «Темненькая, маленькая, „из дворянского рода Шишкиных“ (очень гордилась) — всегда раздраженная, всегда печальная, какая-то измученная, ужасно измученная (я потом только догадался), в сущности, ужасно много работавшая, в последние года два больная» (139).
С детьми Надежда Ивановна не играла и не беседовала — не до того было, к тому же видела и чувствовала отчужденность их. Потому и «бросила разговаривать» с «такими дураками». «Мы, дети, до того были нелепы и ничего не понимали, что раз хотели (обсуждали это, сидя „на бревнах“, — был „сруб“ по соседству) жаловаться на нее в полицию». Только когда уже «все кончилось» и мать умерла, узнал Василий (из письма ее к старшему брату его Николаю), что она постоянно думала и заботилась о детях, но «не разговаривала с дураками», потому что они «ничего не понимали».
Весной, когда мамаша возилась с «нуждою своей, добывая нам корм», Вася с мальчиками из своей околицы играл на бугорке возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Костроме. Мартовско-апрельское солнце обсушит, бывало, этот бугорок раньше всего вокруг. Везде — зима, а около храма — весна. Хороший обычай у русских, говорит Василий Васильевич, ставить храмы на бугорке, на горке. Каменные ступени паперти и отражение от белых каменных стен солнечных лучей необыкновенно нагревали бугорок. «Везде в садах, в огородах стоит глубокая зима, хоть и яркая уже, солнечная, а около Покрова Пресвятой Богородицы — лето: и, забирая бабки, плитки, деревянные шары и клюшки, все летние забавы, мы, бывало, спешим туда…»[28]
Старые воспоминания детства. Как они хороши и сладостны! Позднее Василий Васильевич особенно любил слушать церковную службу с улицы, из садика, в летние или в осенние праздники. «В церковь пройти нельзя от народу. И вот станешь около открытого окна. В окно несется: „Иже Херувимы“. И слушаешь одним ухом, а глазами рассеянно смотришь на колокольчики, на розы, на астры…»[29]
Мать, истерзанная нуждой, бессильная что-либо предпринять, умерла, когда Василию было лет четырнадцать (точно он не помнил). Ее образ, то трогательный, то жалкий, возникает в его книгах как незаживающая рана детства. «Она не знала, что когда потихоньку вставала с кровати, где я с нею спал (лет 6–7–8), то я не засыпал еще и слышал, как она молилась за всех нас, безмолвно, потом становился слышен шепот… громче, громче… пока возгласы не вырывались с каким-то свистом (легким). А днем опять суровая и всегда суровая. Во всем нашем доме я не помню никогда улыбки» (78).