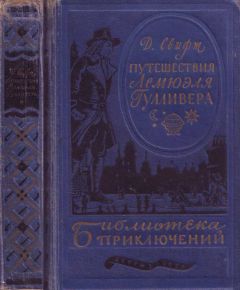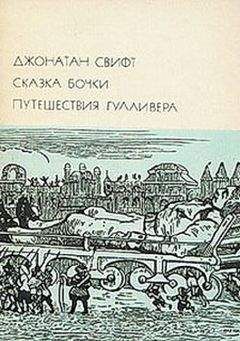Михаил Левидов - Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях
«Но ведь это несправедливо!»
И он ходит по обширной комнате, от стены к стене, он взбегает вверх по внутренней лестнице своего обширного и пустынного дома, он сбегает вниз. Он должен двигаться. Он еще бодр и может делать прогулки по восьми-десяти миль. Но угроза приступа головокружения, когда уходит земля из-под ног, когда не может его острый взгляд проникнуть сквозь зыбкую пелену тумана, выключающую его из мира, удерживает его в четырех стенах. А декан стыдлив, всю жизнь был настороженно стыдлив этот мощный человек, внушавший почтение, смешанное со страхом, – и не хочет он, когда начнется головокружение, цепляться за прохожих, за уличные столбы, не хочет внушать жалость к себе – безжалостному бойцу.
Но ходить он должен: шаги, движение заглушают мысли, а мысли слишком тяжелы.
Мысли? Это не мысли, а гвоздь в мозгу.
«Как это несправедливо!»
Всю жизнь воинствовать за права разума – и умереть умалишенным; всю жизнь воздвигать крепости мысли – для того чтобы покончить жизнь в трясине слабоумия…
Книгу Иова, самую печальную и самую насмешливую из всех книг человечества, он читает – снова свифтовская причуда – каждый год в день своего рождения, 27 ноября. С печальным насмешником, автором этой книги, было бы о чем побеседовать декану собора св. Патрика. Недоумевает декан: лишить человека дома, виноградника, жены, детей, здоровья – и это все? И человек дерзновенно роптал и усомнился, и человечество уже тысячелетия твердит – как страшно испытание Иова… Что же скажут свидетели о судьбе человека, который сам пожертвовал всеми свойственными человеку радостями, оставив себе лишь одну – видеть и понимать… и приходит слепая судьба и у самого конца долгого и трудного пути сталкивает мужественного путника в темную яму.
Нет, он не Иов и не сдастся.
Еще выше поднял Джонатан Свифт свою непокорную голову.
Он не сдастся до конца.
Не знает еще Свифт, как близок конец. Не знает он, что через два месяца и двадцать три дня продиктует ему безмерное отчаяние жалобные строки предпоследнего его письма:
«Всю ночь я невыразимо страдал и сегодня ничего не слышу и охвачен болями. Я настолько отупел и потерял разум, что не могу объяснить, какие муки унижения переживает мой дух и тело. Все, что могу сказать, – я еще не в пытке агонии, но жду ее ежедневно и ежечасно. Прошу, сообщите мне о здоровье вашем и вашей семьи. Я едва понимаю то, что пишу. Я уверен, что дни мои сочтены, они должны быть недолги и жалки». Подпись – и приписка: «Если я не ошибаюсь, сегодня суббота июля 26 1740 года. Если я доживу до понедельника, то надеюсь, что вас увижу, вероятно, в последний раз».
А через полгода наступила агония: дни ее были жалки, но долги – до конца 1745 года…
Но сегодня, третьего мая 1740 года, в этот жалобный день тусклой дублинской весны, Свифт не сдается. И это он докажет – спокойным и мужественным делом.
Свифт щелкнул ключом, достал из железного ящика – хранилища бумаг – тщательно сложенный документ, сел к столу, просматривает его. Строгий, холодный порядок на столе, все на своем месте. Плотная серебряная подставка, на ней серебряная чернильница, бокальчик с песком и остро очинёнными перьями. Рядом стопка глянцевитой, толстой, белой, с ворсистым краем бумаги, импортированной из Франции – в Англии только-только научились делать белую бумагу. Тут же – черепаховая табакерка, четырехугольная, инкрустированная золотом. Серебряный колокольчик. Печатка с изображением Пегаса. Тяжелые золотые часы с суточным ходом и открытым циферблатом: Свифт всегда должен точно знать время, иначе кажется ему, что оно остановилось, застыло и не сдвинется больше.
Все аккуратно на столе, ни пылинки. «Чистота и аккуратность – вот чего я требую раньше всего от своей жены», – писал Свифт сорок лет назад, в 1700 году, влюбленной в него девушке. Этого он требует и теперь, от своей домоправительницы Энн Риджуэй.
Декан ею доволен:
– Что же я ей завещаю?… Нет, подождите, миссис.
Читает очень внимательно документ. Рука протягивается к остро очинённому перу, тщательно стряхивает чернила – всю жизнь не любит он клякс, – кой-что вычеркивает, кой-что приписывает быстрым, настойчивым и властным своим почерком. Черновик завещания, составленный еще три года назад, уточняется, приобретает окончательную, последнюю свою форму.
Что же завещает миру Джонатан Свифт? О чем его последнее слово? Что противопоставит он страшной и жалкой участи, уготованной ему судьбой?
Но ведь он уже завещал, оставил потомству замечательное наследство! Ведь за спиной около пятидесяти лет литературного труда: от первых юношеских стихов и до последней работы – оставшейся незаконченной блестящей диссертации «Наставление слугам» – последняя могучая вспышка его гениального сарказма. Свифт умрет, но они-то живут и останутся жить – его двойники и маски: Исаак Бикерстаф, эсквайр, Лемюэль Гулливер, хирург, Исследователь, Суконщик, Журналист, Мастер Тоби, Мерлин Предсказатель, Англиканский Церковник, Мартин Скриблерус, Тоби Зеленая Шляпа, Тоби Розовая Шляпа… О них, о написанных ими томах прозы и стихов должен сказать Джонатан Свифт в последнем своем литературном произведении – первом и единственном подписанном именем Джонатана Свифта, – в своем завещании!
Как будто должен – но не говорит. Ни слова об этом в завещании.
Потомки и это сочтут капризом старого декана.
Свифт пожимает плечами: чего ж естественней…
Когда пишет свое завещание плотник или столяр, не говорит же он в нем об инструментах своего ремесла – о долоте и стамеске, сверле и рубанке, топоре и пиле? Они служили ему верно для работы, теперь работа кончена, инструменты лежат в углу: пусть тот, кому они нужны, воспользуется ими.
А слава?
Знает Свифт: тому, кто всю жизнь – в поту, в изнеможении, в страхе и надежде – взбирался по лестнице славы, карабкался, одержимый тщеславием, вползал, уязвленный завистью, цеплялся и задыхался, тому, как дети родные, дороги даже камни и песчинки, из коих сложены ступени лестницы славы.
Не о славе думал Джонатан Свифт, когда вгрызался в зло мира, рубил, пилил, не любовался своей смертоносной стрелой, когда пускал ее во врага.
Знает Свифт, что его считают великим писателем. «Величайший гений века» – так назвал его Джозеф Аддисон еще в 1705 году. И лишь недавно, перечитывая «Сказку бочки», не мог он удержаться от наивного восклицания: «Боже, какой я гений был, когда писал эту книгу!»
Но тщеславиться этим? Свифт слишком горд, чтоб быть тщеславным. Всю жизнь писал, но ни славы, ни денег не добивался. За долгие эти годы лишь однажды получил он вознаграждение за литературный труд: двести фунтов за «Гулливера» – и то устроил это без ведома Свифта друг его, поэт Александр Поп; за свой перевод Гомера получил Поп шесть тысяч фунтов. Свифт нежно любит Попа, последнего оставшегося в живых друга, Свифт признает его поэтический дар; Попу – тому нужно было взбираться по лестнице славы, в этом состояло его жизненное дело. Свифт охотно поддерживал его на шатающихся ступеньках; пусть Поп и пишет в своем завещании о «Дунсиаде», о «Похищении локона», о переводах Гомера.