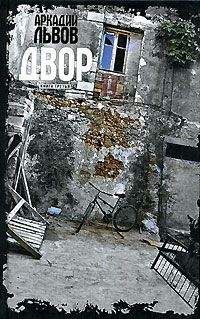Андрей Грешнов - Дух, брат мой
Бензин, керосин и дизельное топливо в Кабуле почти кончились. Население начало пилить вековые деревья, и тонкие кустики, не жалея того, что было посажено руками школьников на хашарах (субботниках), приуроченных к славным годовщинам Апрельской революции. На Чикен-стрит (район Зеленого базара в центре города) и дальше в Шахренау (новый город) пахло гарью — жгли уголь и окаменевшие корни деревьев. Энергоснабжения практически не было. В осиротевших дуканах тускло мерцали лучины, опущенные в комбижир. Не было даже керосина, чтобы запалить индийские лампы и обогреватели. По ночам люди мерзли. В кишлаках, прилепившихся к пологим горам, окружавшим афганскую столицу, в темное время суток было очень зябко. У пекарен выстраивались женщины, покупавшие сразу десятками продолговатые серые лепешки. Белой советской муки больше тоже не было.
Индийское посольство штурмовали толпы желающих покинуть родину. Думаю, что если бы было можно, то штурмовали бы и пакистанское. Но по стечению обстоятельств, практически рядом с посольством этого недружественного государства находился следственный изолятор министерства госбезопасности. Желающих стоять в очереди именно здесь, за все время войны замечено не было.
В городе потихоньку стали появляться подозрительные молодые люди с тонкими бородками, на головах которых красовались северные шапки-«паколи», похожие на блины. В воздухе витал запах приближающейся разрухи. Время клубилось и шло вспять. На Родину уходили советские солдаты.
Кабул. 5 февраля 1989 года
В этот день мы не выдержали и поехали в штаб Сороковой армии выпрашивать бензин — наш транспорт просто встал. На первом КПП еще стояли дежурные, но пропустили без звонков наверх, просто глянув на красный пропуск с буквой «А». Кирпичного цвета «Мерседес-бенц» резво взвился по серпантину и установился прямо у входа. В штабе царил сущий кавардак. Не знаю, как выглядела эвакуация американцев из Вьетнама, но это сравнение почему-то сразу пришло на ум. По полупустым кабинетам и длинным коридорам бродили немногочисленные офицеры и солдаты, набивающие секретными документами, в одночасье превратившимися в ненужную макулатуру, огромные мешки. И хотя в некоторых кабинетах еще продолжали работать военные, было совершенно очевидно, что все это не надолго. Некоторые, наверное, не столь секретные бумаги, валялись на столах и на полу открытых и пустых кабинетов. Сердце ныло. Вот так, все очень просто. Как говорил царь Соломон, «пройдет и это». Уходили в небытие годы жизни, полные радости и горя, удач и невзгод. Уходили те, кого я любил и ненавидел, с кем рядом жил нормальной человеческой жизнью, где все было предельно просто и откровенно. Где да звучало как да, а нет — как нет. Время, страшная и неумолимая субстанция. Оно пришло…
Обратились к старшим офицерам — не помогут ли разжиться бензином? Их командир и начальник штаба лишь скривили лица — у них приказ все остатки топлива уничтожить, никому ничего не давать, даже тем, кто остается в Кабуле без прикрытия. Извиняйте, братцы, говорил командир, ничем помочь не могу. Начальник штаба был еще более тверд и преисполнен решимости выполнить последний приказ Родины и командования — военное добро сгноить и изничтожить, но ни крохи, не капли врагу — то есть нам — не отдать.
Так бы они воевали, как командовали. Приказ о том, чтобы не давать никому остающегося бензина, был отдан по согласованию с генералом Варенниковым. Стратег. Я слушал заклинания командиров, а в голове всплывали слова бойцов, неоднократно сказанные об этом военачальнике. Не приведи Господи, было помянуть при них — солдатах и младших офицерах, на чьих руках умирали их товарищи, — Звезду Героя Валентина Варенникова. Сразу следовала реплика: «Ему Звезду, а его телке — за БЗ». И неважно уж сейчас, какой из двух телок — той, что упала с лошади на конной прогулке и сломала руку, или той, которая, убыв в загранкомандировку из советского совхоза, верой и правдой одаривала его теплым парным молоком. Не знаю, сам их не видел, только слышал неоднократно. В этот момент для меня было уже неважно, был ли он по-настоящему талантливым и прозорливым генералом. Возможно, и был. Важно другое. Он был крайне жесток по отношению к простым солдатам, жесток как помещик к крепостным. Наверное, он и воспринимал их именно как крепостных, как живые игрушки. Этих голодных, потерявших человеческий облик, но только не собственную гордость, пацанов, которые были готовы стоять до конца. Этих мальчиков-героев, вчерашних школьников, с автоматами в руках. Он не сумел вернуть матерям их сыновей, а слал домой десятки тысяч цинковых гробов, реализуя на практике штабные игры на картах, рисуя на них синие и красные стрелки. Черные от копоти лица лежащих шеренгами и укрытых брезентом пацанов на аэродромах в Кундузе, Кандагаре, Джелалабаде, Шинданде. Целлофановые мешки с разложившимися останками мальчиков в Кабульском морге. Гробы, гробы, гробы. Десятки тысяч гробов. Пусть они ему вечно снятся. Это — цена его золотой звезды.
Я не оговорился, упомянув десятки тысяч гробов. Эта цифры согласуются с реальностью. Легче, конечно, поверить в цифру 15 тысяч и сравнивать ее с жертвами ДТП на дорогах. Проще всего поверить государству и успокоиться. Но если воспринимать ложь как данное, то нас и дальше будут успешно обманывать.
В 1986 году я пробовал сосчитать цифру реальных потерь на этой войне. 23 февраля состоялось торжественное открытие стелы афгано-советской дружбы в Центральном военном госпитале в Кабуле. На церемонии присутствовал президент Афганистана Наджибулла. По окончании праздника я открыто спросил начальника госпиталя, полковника Немытина о боевых потерях.
— Какие такие боевые потери? — удивился улыбающийся военврач. — Сейчас в госпитале одни «самострелы». Боевых потерь нет.
Я хорошо запомнил эту минуту, его нежелание отвечать прямо на поставленный вопрос, почти неприкрытый цинизм медика в отношении искалеченных солдат. Он, хохотнув, посоветовал пообщаться с младшим медперсоналом. Видимо, на свою беду. Не долго думая, я быстро познакомился там же, под соснами, что росли во дворе военного госпиталя, с медсестрой Любой. Она была простая девушка и за возможность прокатить ее по городу с целью покупки в дуканах некоторых вещей, согласилась рассказать мне о том, кто лежит в госпитале, как считаются потери, а также привести некоторые цифры летальных исходов.
По ее словам, в июне 1985 года в госпитале скончались 98 человек, в июле 112, августе — более 120 человек. С наступлением осени цифры летальных исходов несколько уменьшались. Здесь нужно учитывать тот факт, что Люба имела в виду только «хирургию», и только кабульскую. Полевые военные госпитали функционировали во всех провинциях Афганистана, где стояли наши части и подразделения. В Кабул везли только тех, кого еще по ряду признаков можно было довезти до госпиталя живым. «Среднюю тяжесть» оперировали на месте, сразу перебрасывая еще живые тела в Союз. В счет не шли инфекционные отделения госпиталя. Только в Кабуле их насчитывалось три. А сколько в гарнизонах? Инфекционные заболевания выкашивали в рядах советских военнослужащих едва ли не больше жизней, чем подрывы на боевых операциях. По словам Любы, тех, кого еще можно было переправить в Союз живым, записывали при отправке в журнал как раненых, отправленных на Родину. Когда они умирали на территории СССР, они уже не считались погибшими в Афганистане и не портили статистику. Для таких пациентов была придумана специальная терминология — умершие от ран. То есть в официальных сводках потерь они проходили как раненые, а в реальности — умирали от этих ран в скорости после их доставки в Союз, иногда прямо в самолете. Так государство считало потери в Афганистане.