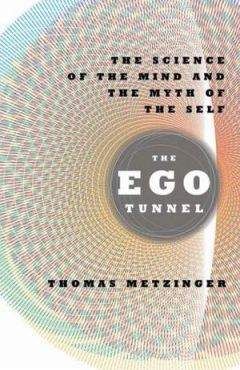Игнасио Идальго де Сиснерос - Меняю курс
Принимая во внимание обстановку, в которой я жил, удивительно, что взгляды Черепичника, так возмущавшие всех, казались мне справедливыми. Я не могу даже на миг представить себе, каково было бы изумление бабушки, узнай она, что ее любимый внук с интересом слушает речи своего друга Черепичника, направленные против частной собственности и аристократов.
Бабушка любила, чтобы вокруг нее было много людей, поэтому в нашем доме всегда кто-нибудь гостил. Кроме того, [22] у нас часто собиралась местная аристократия - посидеть за чашкой шоколада, поиграть в карты и просто поболтать. В их обществе я испытывал жестокую скуку и уходил в комнату, где жили служанки. Горничные моей бабушки были приятными девушками. С ними у меня имелось своего рода соглашение, которое обе стороны честно выполняли. Я никогда не передавал их сплетни, не сообщал об их проделках и, когда мог, помогал скрывать маленькие отлучки и добиваться разрешения на непредвиденные отпуска. Они доверяли мне и тоже часто выручали. Мое присутствие не мешало им вести откровенные разговоры обо всем, что их занимало. Несомненно, беседы с Черепичником и откровенные высказывания, которые я слышал в комнате прислуги, оказали влияние на формирование моих жизненных взглядов, хотя тогда я не отдавал себе отчета в этом.
До сих пор хорошо помню некоторых гостей, приезжавших в Канильяс. Не забыть впечатления, оставленного приездом в 1907 году моего дяди Мануэля Лопес-Монтенегро, того самого, что подарил мне филе, съеденное потом кладовщиком колледжа. Дядя прибыл на блестящем автомобиле «Рено». Раньше я никогда не ездил на машине и считал подобное путешествие подвигом. В то время это действительно было почти подвигом. Дядя решил покатать нас, но обе прогулки оказались не совсем удачными. В первый раз, проезжая на машине через деревню Алесанко, мы испугали мулов, впряженных в двухколесную телегу. Они понеслись и остановились, лишь когда перевернули ее. К счастью, никто из людей не пострадал, и недоразумение уладили с помощью нескольких песет. Более печально могла окончиться для нас встреча с почтовой каретой в Аро. Четыре лошади, везшие дилижанс, увидев нашу адскую машину, производившую необычайный шум, в страхе помчались, не разбирая дороги. Едва не опрокинув карету, они проскочили кювет и остановились на свежевспаханном поле, где застряли колеса экипажа. И хотя все остались целы и невредимы, пассажиры и кучер, пережившие несколько неприятных минут, реагировали на происшествие чрезвычайно бурно. Еще немного - и нам, бывшим в меньшинстве, могло не поздоровиться.
Второй раз дядя Мануэль повез нас в монастырь, расположенный в Сан-Мильян-де-ла-Когулья, в семи километрах от Канильяса. Не проехали мы и половины пути, как мотор заглох, и его никак не удавалось запустить вновь. Пришлось вызвать из Канильяса пару мулов и запрячь их в автомобиль. [23]
Так не очень торжественно, сопровождаемые ироническими замечаниями встречных, мы вернулись домой.
Часто посещал нас и другой родственник, барон де Маве («безвкусный Федерико», как называла его бабушка). Он всегда приезжал в ярко разукрашенной коляске, верх которой и сбруя лошадей по его приказу были разрисованы баронскими коронами. Де Маве был невысокого роста, коренастый, с бородкой клином. Одевался он, как все говорили после его отъезда, очень безвкусно - черта, не свойственная нашей семье. Однажды утром я поехал с матерью в Нахера. Там на площади мы увидели группу в шесть или семь человек, окружившую, необычайно экстравагантное существо, которое, заметив нас, стало делать знаки, чтобы мы остановились. Им оказался достойный Федерико Маве в живописной форме ордена рыцарей Калатравы, ожидавший здесь направлявшуюся в Сан-Мильян инфанту Изабель, чтобы приветствовать ее и воздать почести. На общем фоне городской площади, рядом с просто одетыми крестьянами де Маве в своем наряде - широком белом плаще, со шпагой и в шляпе с пером - выглядел так странно, что впечатление от его комичного вида надолго сохранилось в моей памяти.
Помню и его сочные, крепкие замечания по поводу оплеух, заработанных им из-за склонности приставать в коридорах к горничным; он не мог пропустить ни одной из них.
Часто вспоминали в нашем доме о визите, который нанес бабушке епископ, я думаю Калахоррский. Канильяс издавна славился своим вином кларет, подобного которому не было во всей Ла-Риохе. Однако некоторые его чудесные качества при известных обстоятельствах могли стать коварными, особенно для тех, кто о них не знал. Эта необыкновенная жидкость, выпитая несколько охлажденной в жаркий день, кажется очень приятной, легкой и нежной на вкус. Но ее крепость превышает двенадцать градусов.
У нас в семье хорошо знали: стоит гостям выпить кларет, они становятся необычайно веселыми. Почтеннейшие дамы, друзья или родственники моей бабушки, постепенно пьянея, высказывали такое, о чем в свои семьдесят лет никогда не позволили бы себе говорить в трезвом состоянии. Помню очень уважаемых господ, которые под воздействием этого напитка выбалтывали мысли, скрываемые ими в течение всей своей долгой жизни.
Раньше мне не приходилось близко видеть епископа, поэтому я с большим любопытством наблюдал за ним и слушал, [24] о чем он говорит. Но вскоре мне стало скучно, и я, как только представился случай, исчез из гостиной, отправившись посмотреть, что делается на кухне.
В тот день стояла жара, и двери балконов столовой были открыты настежь; они выходили на дорогу, круто уходящую вверх, по которой поднимались груженые подводы. Мулы изнывали от палящих лучей солнца и двигались очень лениво. Вдруг с улицы донеслись отборнейшие ругательства из ассортимента эпитетов риохских дорог. Все пришли в страшное смущение. Господин епископ, также почувствовавший неловкость, сделал вид, будто ничего не слышит. Бабушка приказала закрыть балконы, и обед продолжался.
Превосходный кларет отлично помогал справиться с обильными риохскими блюдами. В результате, несмотря на невыносимую жару, гости чувствовали себя неплохо. Однако духота усиливалась, и господин епископ спросил у бабушки, почему она приказала закрыть балконы. Если это сделано для того, чтобы избавить гостей от брани, доносившейся с улицы, то его лично подобные выражения не пугают, ибо он жил в Калахорре, а там ругаются сильнее, чем где бы то ни было в Ла-Риохе. Балконы снова открыли, и, хотя ругательства доносились по-прежнему, после слов епископа никто уже не обращал на них внимания.
Поместье Сидамон, как я уже отмечал, сильно отличалось от усадьбы в Канильясе. В Сидамоне все выглядело значительно проще. Там постоянно жил Маноло, мой брат по отцу, который сам довольно энергично и эффективно руководил хозяйственными работами в поместье. Доходы Сидамон приносил значительно меньшие, чем Канильяс. Брат жил уединенно и скромно, совершенно не стесняя себя соблюдением обычаев, считавшихся в Канильясе обязательными. В своем имении он трудился больше всех. Вставал рано и работал целый день; когда требовалось, чинил косилку, лечил мула или готовил большие бочки для вина; не чурался никакой работы и не стыдился, если люди, пришедшие к нему с визитом, заставали его с грязными руками или в одежде, запачканной маслом или землей.
![Андрэ Нортон - Повелитель зверей [Мастер зверей, Властелин чудовищ, Повелитель животных]](/uploads/posts/books/103606/103606.jpg)