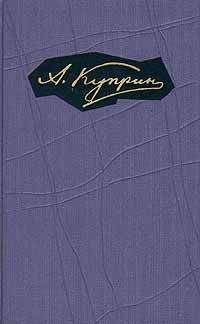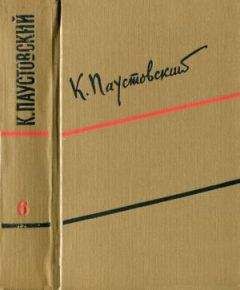Виктор Лихоносов - Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью
Р. 5. Поставив точку, я задумался: а вдруг мое чувство сгустило краски? Кому, в сущности, приятно писать о плохом? Никому. Все равно что накуриться до головокружения. Гораздо интереснее порадовать и людей, и себя самого находкой прекрасной; душе писательской полезнее благостное, гармоничное, поэтическое. Овеянное поэзией произведение (даже очерк) дольше живет. И потом… потом ведь понимаешь: полетят в район после статьи указующие бумаги, затрещат в кабинетах телефонные звонки. Опять вызывай, разбирай, отвлекайся, а тут уже косовица хлебов, за ней сбор овощей, фруктов. Ехал я снова в Тимашевский район жарким июньским днем и мечтал, чтобы там, где я застал в прошлом году неуважение к старости, изменилось хоть что‑то. Я закончил бы статью постскриптумом, но каким! Прежде всего сказал бы о вернувшейся совестливой ответственности. И о прочем.
Увы, увы! Мне предстала еще более безотрадная картина, чем год назад. С хронической болезнью бесчеловечности ее можно только сравнить. Ну, бывшая монастырская площадь засеяна ячменем — ладно, куда ни шло. А в сыром подвале «стардома», в прачечной, грибками съедены низы стен, в комнату — купальню страшно заглядывать. Наверху четырнадцать (из восемнадцати) старушек лежат на койках. Если потянет посидеть во дворе, то после невозможно забраться на второй этаж — ноги, ноги! Две няни работают без выходных за шестьдесят рублей в месяц. Некоторые старушки уже не встают с постели — «попробуйте их поподнимать, переворачивать…». Я не найду тактичных слов, чтобы определить, из чего сотворен туалет. Антисанитария полная.
«Если бы те старики встали, — заметил один колхозник, — они бы сказали: варвары вы!»
За бывшей трапезной стоит в траве что‑то сперва непонятное. То, оказывается, памятник первым коммунарам. Из красного туфа. Говорят, возле него сфотографировались старые коммунары, их дети и внуки. Для потомков. Фото и письмо заложили внутрь памятника с просьбой: «Вскрыть в 2000 году». А что вскрывать? Мальчишки выбили плитку, вытащили оттуда все, и дыра теперь зияет плачевным укором. Если бы встали коммунары, они бы сказали то же: варвары вы!
О надгробном памятнике с неведомой уже могилы поручика Холявки, убитого 30 августа 1914 года на Западном фронте, нечего и рассуждать: камень так и лежит у пыльной дороги под треножником электростолбов.
И, наконец, хутор. Вода в нем все‑таки соленая, многие жалуются на болезни из‑за воды. К четырем часам утра, «чтобы застать», хуторяне торопятся в Тимашевск за молоком. Некоторые вступили в колхоз еще в 1927 году. Председатель неутомимо следит за тем, как выкашиваются у дворов сорняки.
— Ну что с памятником, со «стардомом»? — спросил у него пенсионер.
— Все в порядке.
…По пути домой я созерцал богатую кубанскую ниву, рукотворную славу жемчужины России. То там, то здесь мелькают платки крестьянок. Кому‑то скоро идти на заслуженный отдых. Неужели и о них забудут сразу и навсегда? Неужели, если им что‑то понадобится на оставшуюся жизнь, председатель отмахнется так же, как в колхозе имени Димитрова: «А — а, там одни старики…»?
Нет, наши вздохи — это не пустые «вздохи по патриархальщине». При чем она в конце‑то концов? Вздохнем иной раз по живым людям. Вспомним о них сообща. Не нарушим их представления о счастье, о законах, которые на стороне людей и памяти о них.
Вот и все. Точка.
1982
БИОГРАФИЯ РОДСТВА
Из Москвы он поехал окольным путем — через Керчь. Теперь у него завелось много свободного времени: он вышел в отставку в звании майора и навсегда оседал в родном Краснодаре. Покупай садовый участок и лелей
цветы, читай, путешествуй, пиши мемуары — дело твое. Детки вылетели из семейного гнезда: замужняя дочь проживала в Керчи, старший сын сваривал трубы на Севере, младший служил в армии.
Майор Н. немножко горевал, когда подумывал, что они, возможно, выпали из казачьей зыбки навечно. Так легко стали молодые бросать родительский дом! Веселее им устраивать свою жизнь где‑нибудь в чужой стороне, искать женихов — невест, хвататься за любую комнатку в общежитии — только б закрепиться в больших городах, где в непрестанной толпе никто никого не запоминает. Лишь к старости кто‑нибудь повздыхает, поохает, как, например, приятель его покойного отца, с которым Н. два дня назад повидался в Москве: «Та я ж с Кубани, темрючанин! Мать с батькой там в земле, а я уже и на том свете, наверно, буду москвичом. Газеты покупаю кубанские, тоскую, а до Тамани никак не доеду — музей Лермонтова побачить. Было уже собрался, да жена попросилась в Карловы Вары, полечиться».
Временная ностальгия не очень‑то оправдывает бедное наше родословное чувство. При расставании пообещали они друг другу пройтись по улице Красной еще до 200–летия города да и прикинуть, что можно сделать доброго к юбилею («По силе возможности, конечно», — сказал земляк), и это было скорее красное словцо, чем твердое желание.
С мыслями о неминуемом возвращении души к детским порожкам, улочкам, к разговорам отца — матери о том, что было когда‑то на Покровке, на Дубинке и в окрестностях, стоял Н. в вагоне у прохладного окна и глядел на придорожные деревни. В молодости он писал плохие стихи, зато пристрастился к чтению и многое о земле русской запомнил.
Вот час назад протянулось на круче Москвы — реки село Коломенское, и память в деталях возродила страницы его истории: чья это была вотчина, как останавливались там русские войска после победы в Куликовской битве и битвы под Полтавой, и что здесь жемчужина шатровой архитектуры. А недавно археологи копали ров, пытаясь найти библиотеку Ивана Грозного. Потом проезжали Тулу, Орел, Курск — все сияет в книгах преданиями, и книги эти он читал. О своей Кубани знал Н. так мало! Воинским ремнем стянули его российские пространства, внимание его потихоньку рассеялось, но порой и в рассеянности тоскливо влекло его в степи бескрайние, и, как только пробил час выбирать города, в которых обещалась ему свободная прописка, он без раздумий назвал свой Краснодар.
Не белая зима, а как будто поздняя осень светилась на январских крымских полях, на горе Митридат с острой каменной колонной, над водой пролива с падающими из‑под туч широкими столпами, с пестреющими чайками у портов.
Та же незимняя картина была и в Тамани.
Пустое время надо было чем‑то заполнить, и Н. гулял по станице.
Возле площади он попросил в газетном киоске несвежие журналы. Никогда их не брал, поэтому первый полистал особенно придирчиво. «Что же вы на меня так смотрите и уже обижаетесь? Кто виноват? На чай мне пригласить вас некуда. Время идет, прелюдия затянулась, а что не случается вовремя и нечаянно, то не случается никогда». О любовных томлениях читать было поздно, и он взялся изучать 9–й номер «Литературной Грузни», веером пропустил странички, одну задержал пальцем, стоп: П. Флоренский «Природа». Он тут же заплатил шестьдесят пять копеек и смял журнальчик в руке. Ему понравилась первая строчка: «У меня была нежная горячая любовь к родным, собственно и преимущественно к старшим». Это были воспоминания о детстве на Кавказе! Может, Флоренский краешком зацепил и Кубань?