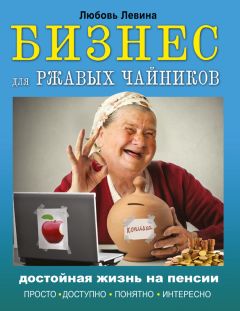Владимир Прибытков - Иван Федоров
Немец и не догадывался, поди, как растревожил душу митрополитова переписчика.
А Иван Федоров не мог по-прежнему взять в толк, отчего еретикам открыто богом то, что скрыто от православных, от поборников истинной веры.
Он признался в сомнениях митрополиту.
— А зачем Иосиф у египтян в плену томился? — вопросом ответил Макарий. — Не проще ли было господу в милосердии своем не дать свершиться злу в долине Дофан, поразить братьев Иосифа, продавших его мадианитянам?
— Нет, владыка. Это я разумею. Ради благословения Иакова претерпел сын его.
— Гораздо отвечаешь. Тож и мы ныне претерпеваем, сыне, чтоб возвыситься и все другие языки в служении вере христовой превзойти. И превзойдем. Всему нас господь вразумит в свой срок.
А Маруша Нефедьев о печатном писании немецком сказал прямо:
— Греха в нем нет, если только печатью истинную веру прославлять. Ты о Макарии-черногорце слыхал? Нет? Тогда годи-ка!
Он вынес тяжелую, в кожаном переплете с медными застежками книгу, бережно расстегнул, раскрыл.
В глаза Федорову сразу бросились славянские буквы. И пока он жадно разглядывал пестрящие киноварью красных строк, выносных знаков и значков плотные листы, Маруша поведал:
— Это митрополитов тезка, черногорский священник Макарий еще полста лет назад печатал… Красиво?.. Стало быть, не одни немцы сие искусство ведают!.. Ты к митрополиту вхож — попроси, он тебе еще и книги Феоля покажет. Ну, Феоль — немец. Но печатал в Кракове по-нашему. Правда, буквы у него приземисты…
И, видя, что Федоров никак не оторвется от книги, вздохнул:
— Хорошо бы и нам этак книги множить. И скоро, и ошибок за каждым дуроломом править не надо… Только вот как вызнать про печать? Уж я и фряжских и немецких гостей выспрашивал и Гаспара пытал, да толку нету. Молчат, бусурмане!
…Да, жизнь в Москве начиналась для Ивана Федорова спокойно. Она привечала, открывала путь к желанному подвигу и вдруг обрушилась на голову нежданной бедой.
***…Год семь тысяч пятьдесят пятый — третий год пребывания Ивана Федорова в Москве — начинался событиями, обещавшими русской земле великие перемены.
Семнадцатилетний великий князь Иван Васильевич объявил московским боярам, что намерен жениться и прародительских чинов поискать.
Думали, за пирами да играми и не помышляет Иван о делах государственных, а он…
У иных бояр по спине пробежал озноб.
Вспомнили судьбу князя Иоанна Кубенского, казненного за лихоимство по доносу ближнего великокняжеского дьяка Захарова.
Не боле других был виноват князь Кубенский, а его и не выслушал никто. И заступиться за него не успели…
Вспомнили и Афанасия Бутурлина. Вздумал пенять Ивану Васильевичу на самоуправство, на то, что древним родам не верит, — тут же, где говорил, язык отрезали.
Вспомнили убиение старого Федора Воронцова. Уж кто верней был! Еще отцом Ивана был обласкан. От Шуйских претерпел в младенчестве Ивана Васильевича. На радостях, что опять приближен, научил новгородских пищальников, помимо дьяков-мздоимцев, у самого великого князя управы искать. Новгородская простота Ивана на охоте сыскала, стала приступать с просьбами. А великий князь на коня, пищальников велел бить, сам ускакал и тут же Воронцову голову ссек. Умышлял-де на великокняжью жизнь!
А князь Михаил Трубецкой? А князь Иоанн Дорогобужский? А князь Федор Оболенский?
И те без суда казнены.
Федор-то Оболенский, отрок еще, за то только и пострадал, поди, что с великим князем обличьем оказался схож. А как не быть схожим, когда у обоих отец-то один, Шуйскими уморенный боярин Телепнев-Оболенский?
Ох, тревожно!
Никого, кроме дьяков да захудалых людишек, Иван Васильевич к себе не допускает. Сын-то Телепнева, а повадки все, как у покойного великого князя Василия. Одни Глинские, материна родня, у него в чести да митрополит Макарий — лиса хитрейшая.
И вот — на! Собрался чины прародительские искать! Это, стало быть, на царство венчаться?
..Москва приняла новость радостно. Толкаясь в толпе, Федоров слушал толки:
Теперь боярскому засилью конец!
— В возраст великий князь взошел, он и Глинских уймет!
— Он прижмет боярам хвост-то! А то посля князя Василия хозяевами были! Ни суда на них, ни управы!
— Хорошо бы…
— Ты чего сумлеваешься?
— Я не сумлеваюсь. Глинских уймет, а как женится, новая родня его опутает.
— Князя Ивана не опутаешь! Строг. Ишь, башки-то сечет княжеские! Словно репьи!
— Молод… Да питию прилежит…
— А ты не прилежишь? Ты вон намедни от кумы за полночь выбирался.
— Буде вам языки чесать! Князь Иван римских кровей. Разумей кесаревых. Он не токмо Руси, а всей земли вотчич! И теперь жди! Ополчаться станем.
— На татар не худо бы!
— А вот уймем бояр, и за агарян возьмемся!
— Ух, робята, неужто праздника дождались? А?!
В шестнадцатый день января, стоя с другими кремлевскими дьяконами на клиросе Успенского собора, Иван Федоров неотрывно смотрел на узкое, высоко поднятое лицо великого князя Ивана и ликовал душой, видя, как возлагает митрополит Макарий на голову наследника римских кесарей мономахову шапку, как отягшает его цепью и бармами, некогда присланными на Русь самим императором византийским Константином.
Свершилось!
И могуче звучал голос Ивана Федорова в оглушительном хоре голосов, возгласивших первому боговенчанному царю русскому славу:
— Слаа-ава!
А всего две седьмицы минуло — и опять довелось ему славить царя, теперь уже вместе с русской царицею, с голубицей Анастасией, дочерью покойного сокольничьего Романа Юрьевича Захарьина.
Огорчил царь Иван своих бояр: не из знатного, не из древнего рода выбрал жену себе, но из рода, его отцу верного.
Шипели в боярских теремах, что раба царицей станет, но в открытую молвить побоялись! Смирились, хоть и обманулись в надеждах.
А в Москве опять ликование!
Опять царь своей волей живет!
Быть, быть переменам!
Перемены же должны быть к лучшему. К худому-то больше некуда…
В доме Федорова еще одна радость в ту пору обрелась: Ирина ходила тяжелая, на петров день ждали разрешения. По всем бабьим приметам, носила она сына.
— Боюсь я… — тихонько признавалась Ирина мужу. — А как со мной случится что?
Кабы знать, что суждено!
Но кто мог знать?..
21 июня гулял по Москве ветерок-шептунок. Перебирал молодую листву на дубках и липках, ерошил перья ворон и галок, рябил воду прудов.
Дуло с Козьего болота, с веселых, пестрых лугов Новоспасского монастыря. Запах цветов и трав смешивался с запахом цветущих лип, слышался даже в вонючем Зарядье.