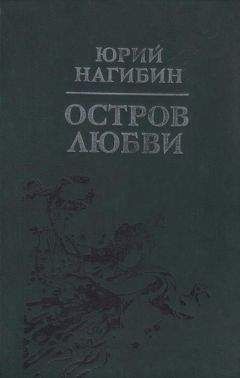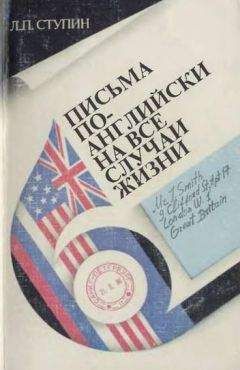Михаил Байтальский - Тетради для внуков
Одним из худших грехов руководителя мы считали тогда отрыв от масс. Его опасались пуще смерти; за него без колебаний исключали из партии во время очередной чистки. А если, скажем, секретарь губкома позволял себе пропускать собрания ячейки, в которой он состоял рядовым членом – это означало, что он "отрывается", – и любой комсомолец, поднявшись на клубную сцену, мог высказать ему в лицо суровую правду. Да, так оно и было.
* * *Нет ничего проще, чем отмахнуться от Маруси с ее уравнительными понятиями, с недостаточной утонченностью, со всем тем, что теперь кажется примитивным и нарочито неуклюжим. А она вовсе не была примитивна – она была сложной и интересной личностью. Время требовало от нас наступать на горло тем чувствам, которые могли ослабить дух солдата революции. Время настаивало на прямолинейности и резкости. Время торопило нас, заставляя отбрасывать лишнее (пусть и очень важное!), как солдат в походе бросает все, сохраняя лишь необходимое: оружие, фляжку воды, табак и немного еды. Потому-то даже в воспоминаниях мы выглядим лишенными красок, черно-белыми, без полутонов. А краски были, и полутона тоже были, – но это были краски той эпохи. Мы не подделывались под нее – мы ее создавали. А она, в свою очередь, формировала нас. Маруся, подобно всем нам, изредка презрительно бросала: «гнилой интеллигент». А в ней самой был жив дух подлинной внутренней интеллигентности. Что она такое, эта интеллигентность, мы тогда понимали очень смутно, механически отождествляя поведение служилого сословия в первые годы революции, с самой сущностью интеллигентности. Теперь этот прием забыт, но появился новый: отождествление интеллигентности с дипломированностью.
Мы и сами не знали, что переняли нравственные идеалы всех поколений русской революционной интеллигенции: ее нонконформизм, правдолюбие, совестливость. Может, в чем-то мы и перехлестывали через край, но наша активная ненависть ко лжи и ханжеству, к лицемерию и угодничеству были несомненны. И эти качества очень скоро оказались не ко двору. Наша неспособность молчать и безгласно подчиняться окрику сверху не годились Сталину. Тот факт, что почти все друзья моей молодости загублены им – далеко не случаен.
4. Мера человеческих поступков
Я еще помню свою маму молодой. Случалось, приедет из местечка в Ананьев ко мне, гимназисту пятого класса, мы идем с ней по улице, и все оглядываются. А одета она очень просто, и никаких украшений – ни ожерелья, ни даже колечка. Украшений она никогда не носила.
В местечке Черново имелись, как водится, местечковые богачи. Их жены любили щеголять золотыми цепочками, брошками, браслетами. Мужья считали, что расходы на золото себя окупают, что это – расходы на представительство.
Есть представительство совсем другого рода: простота квартиры Ленина в Кремле представительствует перед трудовыми людьми всего мира: таков моральный облик пролетарского революционера. И люди поймут: дело не только в тогдашней бедности России, но и в добровольном самоограничении коммуниста до тех пределов, в которых живут рядовые трудящиеся. Роскошь станции "Комсомольская", охотничьих домиков в Грузии (и не только в Грузии!) и некоторых современных палаццо доказывает вовсе не высокий уровень современной обеспеченности широких масс, а лишь степень отрыва от них тех, кто называет себя их представителями.
… Маруся Елько не носила украшений. Возможно, она просто не любила их, как моя мама, у которой не было принципиальных причин, какие могли руководить Марусей.
Маруся никогда не "хлопотала" и о благах. Заслужил – не заслужил, такой меры у нас в те годы не знали. Таких и слов не ведали. Мы слишком напряженно интересовались будущим, чтобы меряться прошлым, а заслуги – это прошлое, это то, что уже сделано.
… В нашем доме рабочей молодежи жили три Марусины сестры. Отца уже не было в живых. Все сестры – милые девочки, веселые, прямые, открытые, походили на Марусю изобретательностью по части разных смешных трюков. Их мать работала в губкоме комсомола уборщицей. Передвигаясь со своим веником по кабинетам, она придавала им какой-то домашний уют, словно у нее на квартире собрались марусины друзья для обсуждения своих молодежных проблем. Они спорят, горячатся, размахивают руками. Конечно, Витя Горелов уже задел сгоряча чернильницу.
– Ах, черт! Ей-богу, нечаянно, мамаша, извините меня!
Мамаша улыбается. Она знает, Витя горячий парень. Быстренько снимает со стола залитую чернилами газету, стелет другую, ставит чернильницу подальше от Вити и выходит. Так оно и было, весь губком и все районы считали себя одной большой и дружной семьей. Вспоминаю одного из самых неугомонных мальчишек нашей семьи, лихого пересыпчанина Сему Липензона. Он отличался не только лихостью. От природы талантливый вожак, он постигал, все, что знал, самоучкой. Совсем еще молодым, не имея формального образования, впоследствии он успешно вел большую хозяйственную работу. А потом – погиб от пули. Не на фронте, а в воркутинской тундре, где нет и холмика над его могилой.
Никогда и нигде я не чувствовал так полноту товарищеского доверия, как в комсомоле тех лет. В подпольной организации дело другое – там доверие глубочайшее, но ограниченное узким кругом. А когда подполье кончилось, и комсомол стал расти вширь – позволена ли даже тень недоверия?
"Сталь закаляется в огне" – выражение неточное. Сталь, нагретая в огне до своей критической температуры (не одинаковой, заметим, для разных сталей), закаляется, если резко погрузить ее в охлаждающую среду.
По многу лет ты не виделся с друзьями молодости. Ваши пути разошлись – и вдруг выясняется, как мала планета. Очнувшись где-нибудь на краю света, находишь на нарах рядом с собой одного из друзей, кого не чаял никогда и встретить…
Мишу Югова[11] я не знал в юности настолько близко, чтобы рассказать, как пятнадцатилетний мальчик с гимназической скамьи пошел в революцию, как он работал в подполье, как сражался в рядах Красной гвардии, а потом – Красной армии. Но я видел его тогда, когда в нем начал крепнуть редкий талант трибуна – талант, приковывающий сердца слушателей к оратору. Миша Югов, одаренный юноша, обещал стать большим человеком.
В наши дни, когда доклады зачитываются по бумажке или передаются по радио устами диктора, теряет свое значение непосредственная импровизированная речь. Телевидение не может вернуть ораторскому искусству его былую роль – в студии импровизируют редко. Оратор, как и деятель любого искусства, кроме таланта, силен правдой, силен искренностью.
Устная речь во много раз убедительнее, чем читаемая с листка. Слушая импровизацию, люди присутствуют при рождении мысли, они переживают те же эмоции, что и оратор. Они чувствуют: эта речь никем заранее не написана, никем не исправлена, оратор говорит то, что он сам продумал и прочувствовал, что стало частицей его самого. Так можно говорить только правду. Демагогию и ложь не спасет и актерская игра. Обмануть она может лишь того, кто хочет быть обманут…