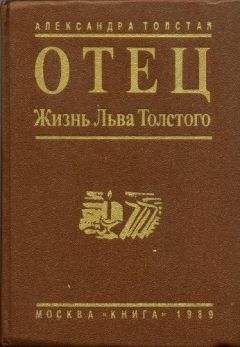Марк Алданов - Печоринский роман Толстого
Написано это 23 ноября. А пот что почти в то же самое время (25–29 ноября) он писал в дневнике:
«В зверинце барыня со сладострастными глазами… С ужасом думал о Валерии по случаю мины сладострастной барыни…» «Получил глупо-короткое письмо от Валерии, поехал к Ольге Тургеневой, там мне неловко, но наслаждался прелестным трио{9}. Заехал к Панаеву, он нагнал на меня тоску…» «Получил письмо глупое от Валерии. Она сама себя надувает, и я это вижу насквозь, что скучно…» «Написал холодное письмо Вальке…» «О Валерии мало и неприятно думаю…»
Неискренности и тут не было, — повторяю, его чувства менялись каждый день. В «Юности» Николенька Иртенев рассказывает: «Я влюбился в Сонечку в третий раз вследствие того, что Любочка дала мне тетрадку стишков, переписанных Сонечкой, в которой «Демон» Лермонтова был во многих мрачно-любовных местах подчеркнут красными чернилами и заложен цветочками. Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я пробовал сделать то же; и действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывать его к губам, я почувствовал некоторое приятно-слезливое расположение и снова был влюблен или так предполагал в продолжение нескольких дней».
Сходство, разумеется, неполное, отдаленное. Неполным окажется и всякое объяснение: это был слишком сложный, необычайно сложный человек. С большим упрощением скажем, что он был влюблен, но не очень влюблен, готов был жениться, но не слишком к этому стремился. «Не любит, а любит любить…»
По его выражению, у Валерии Владимировны была только одна соперница: литература. Писательская среда в Петербурге тогда встретила Толстого отлично. Он ей взаимностью не платил. Его ближайший литературный (да и лич ный) друг Дружинин, который тоже вел дневник, 8 ноября записал: «Приехал Толстой, к великой моей радости, и мы с ним были два дня неразлучны». Великую радость Дружинина нужно считать односторонней — Толстой почти одновременно пишет: «Вечером Дружинин и Анненков, немного тяжело с первым…» «В 4-м часу к Дружинину, там Гончаров, Анненков, все мне противны, особенно Дружинин, и противны за то, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии. Поехал за ними на извозчике к Кушелеву и отбился от них, чему был очень рад…» «Собрание литераторов и ученых противно…» «Литературная подкладка противна мне так, как ничто никогда противно не было…»
Не знаю, что он разумел под «литературной подкладкой», — кажется, писательскую среду и торг с издателями и редакторами. Но свое творческое дело в те времена (да, собственно, и до конца дней) он любил страстно. Его дневники свидетельствуют об этом на каждой странице. «Я никого не видел женщин, — пишет он невесте, — нигде не был и, положа руку на сердце, могу сказать, что в эти три недели ни одна женщина не обратила моего внимания нисколько. Зато вашей главной соперницей — литературой — во все это время я занимался много и с удовольствием…» Сообщая Арсеньевой, что он обещал рассказ в «Отечественные записки», Толстой добавляет: «Я написал, но сам недоволен, чувствую, что надо переделать, некогда и я не в духе, а все-таки работаю. С одной стороны, надо держать слово, с другой, боюсь уронить свое литературное имя, которым я, признаюсь, дорожу очень, почти так же, как одной вам известной госпожой. Я в гадком расположении духа, недоволен собой и поэтому всем на свете, злюсь, зачем я давал слово, хочу работать над старыми — отвращение, и, как на беду, лезут в голову новые планы сочинений, которые кажутся прелестны…»
V
Жюль Ренар когда-то писал о людях, требующих, чтобы в жизни и в литературе все всегда хорошо кончалось: «Они желали бы выдать Жанну д'Арк замуж за Карла VII». Печоринский роман Толстого не кончился браком; но едва ли и брак оказался бы в этом случае счастливой развязкой. Убедившись в своей ошибке, Толстой положил конец роману. Он и не мог поступить иначе.
С нынешней стороны — это был, пожалуй, вариант на тему знаменитых стихов Генриха Гейне:
Довольно! Пора мне забыть этот вздор.
Пора мне вернуться к рассудку.
Довольно с тобой, как искусный актер,
Я драму разыгрывал в шутку{10}.
По существу это совершенно не так. «Комедии» не было. Выла тяжкая ошибка. Толстой, по-видимому, думал, что ошибался в Валерии Владимировне. В действительности он ошибался относительно самого себя.
Быть может, некоторую роль сыграла в деле и ревность к прошлому увлечению Арсеньевой французским музыкантом Мортье. Но, кажется, большого значения ревности тут приписывать не приходится: в письмах к Валерии Владимировне о Мортье говорится гораздо больше, чем в дневнике.
Странные фразы, противоречившие общему характеру их отношений и всему тону переписки, были и в более ранних письмах Льва Николаевича. Но с декабря в его письмах меняется все. В одном из них он дает Валерии Владимировне советы просто как приятель или даже как добрый знакомый… Она скучает? Она не знает, что с собой делать? Да мало ли что можно делать! «Поезжайте за границу, выходите замуж, подите в монастырь, заройтесь в деревню…» Вероятно, этот тон старательно прикрывал и раздражение и чувство неловкости. 12 декабря Толстой пишет Арсеньевой откровенное письмо — самое замечательное в их переписке, чрезвычайно важное и для понимания характера Льва Николаевича вообще:
«Насчет вашего письма я думал вот как: или вы никогда не любили меня, что бы было прекрасно и для вас и для меня, потому что мы слишком далеки друг от друга; или вы притворились и под влиянием Женички, которая посоветовала вам холодностью разжечь меня. Мне кажется, что тут замешана Женичка. Это со мной дурной способ действий. Я слишком серьезно смотрю на дело, чтобы на меня могли оказать влияние мелкие наивные средства. Я давно вижу глубины вашей души, и эти миленькие хитрости для меня не скрывают, а засоряют его.
Ну что же есть между нами общего? Смотря по развитию, человек и выражает любовь. Оленькин жених выражает ей любовь, говоря о том, как они будут целоваться; вы выражаете любовь, говоря о высокой любви; а меня хоть убейте, я не могу говорить об этих вздорах. Верьте еще одному, что во всех моих и ваших отношениях я был искренен сколько мог, что я имел и имею к вам дружбу, что я искренно думал, что вы лучшая из всех девушек, которых я встречал и которая ежели захочет, я могу быть с ней счастлив и дать ей счастье, как я понимаю его. Но вот в чем я виноват, и в чем прошу у вас прощения: это, что, не убедившись в том, захотите ли вы понять меня, я как-то невольно зашел с вами в объяснения, которые не нужны, и, может быть, часто сделал вам больно. В этом я очень и очень виноват; но постарайтесь простить меня… Мне кажется, что я не рожден для семейной жизни, хотя люблю ее больше всего на свете. Вы знаете мой гадкий, подозрительный, переменчивый характер, и Бог знает, в состоянии ли что изменить его. Не то сильная любовь, которой я никогда не испытывал и в которую я не верю. Из всех женщин, которых я знал, я больше всех любил и люблю вас, но все это еще очень мало…»