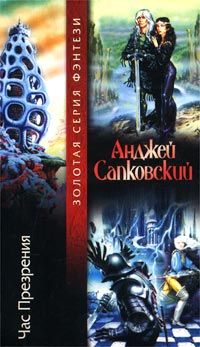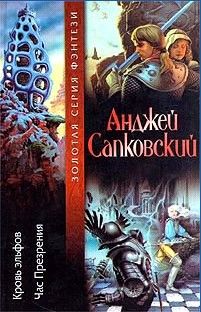Агате Несауле - Женщина в янтаре
Шорох падающего мокрого снега за окном успокаивает. Засыпая, я думаю о своем сыне Борисе, Бориске, как звала я его маленького. Однажды в Мэдисоне в Валентинов день, когда ему было лет семь, мы шли с ним по Стейт-стрит.
— Ведь у нас все замечательно, правда ведь, у нас все замечательно, мамочка? — приставал он. — Скажи, что замечательно!
— Да, да, конечно, у нас все замечательно, — автоматически ответила я, точно так, как говорила моя мать.
— Улыбнись, пожалуйста!
Он осторожно подергал за полу пальто, не сводя с меня взгляда.
Но я была так глубоко погружена в собственную боль, что искренней улыбки не получилось. Мой мальчик понял, что я притворяюсь, молча отпустил пальто, обогнал меня и пошел, глядя в землю.
Эту картину я так никогда и не смогла забыть. Больше всего на свете я хотела бы вернуться назад, еще раз все пережить снова, а потом и все те годы, когда я воспитывала сына. Если бы я могла быть более счастливой матерью, чтобы не оставить на нем клеймо моей печали. Я долго не могу заснуть.
3. ГОЛОДНЫЙ МАЛЬЧИК
Я сплю одна и вижу сон. Будто бегу через луг, опаздываю на работу и вдруг вижу Джона. Он нежно склонился над какой-то из моих подруг. Они планируют куда-то вместе поехать, договариваются, где встретятся, обсуждают, что возьмут с собой. Заметив меня, оба замолкают. Меня обуревает ревность, я чувствую себя отверженной, но мне стыдно об этом сказать. Я хочу прижаться к нему, поговорить с подругой. Оба они разговаривают со мной деловито и даже резко. Я, мол, должна понять, что это не какая-то романтическая встреча, а просто работа. Я чувствую себя ребенком, нелюбимым, изгнанным, лишним.
И в ужасе вдруг вспоминаю, что оставила голодного семилетнего мальчика одного в комнате. Я обещала ему, что скоро вернусь, велела ждать, закрыла на ключ и совершенно о нем забыла. Ручки и ножки у мальчика тонкие, как лучинки, животик вздулся, в прозрачных от худобы ручках он держит пустую миску, в лице смирение. Кажется, мальчик плачет, но так ли это, не разобрать, потому что вокруг его рта и глаз роятся мухи, целая туча. Может быть, просто влага сочится из гноящихся ран, и это не слезы. В комнате душно, окна слишком высоко, ни открыть он их не может, ни глянуть на улицу. Он уже давно меня ждет.
Испытывая чувство вины, я бегу к большому дому. Я должна добраться до мальчика, пока он не задохнулся.
Джон догоняет меня и сразу все понимает.
— Я пойду, — говорит он, — я его покатаю, я отвезу его в гости к моей семье.
Джон великодушный, он готов помочь. Но я знаю, что ответственность за мальчика должна взять на себя я.
— Нет, — говорю я, — я сама должна его спасти.
В испуге, что мальчик уже умер, я задыхаюсь на бегу, спотыкаюсь, падаю. Мальчик все еще далеко.
Сон преследует меня несколько дней, окрашивает каждый мой шаг, все вокруг в серый, безнадежный цвет. Я стыжусь этого, особенно своей ревности. Если я могу допустить, что Джон готов оставить меня ради другой женщины, значит, это может произойти на самом деле. Если я не доверяю своим подругам, кому же мне доверять? Мальчик остается в запертой комнате.
Чтобы успокоиться, принимаю ванну, вокруг горят свечи. В полутьме в запотевшем зеркале фигура моя кажется гладкой и сильной, почти красивой. В воздухе все еще витает аромат ландышей — это пенка для ванн, подаренная одной из моих подруг. Я медленно вытираюсь, чувствую себя как будто лучше.
Но вот я гашу свечи и зажигаю свет, он безжалостен, как прожекторы над колючей проволокой вокруг обледенелого поля. Я смотрю на себя еще раз. Почему мне снятся голодные дети, если тело мое такое упитанное? И ни за что не хочет худеть. Как бы жестко я себя ни контролировала, оно, словно издеваясь, просит и просит есть. Руки и ноги у меня аккуратные, ничего лишнего, а на животе появился жирок. При свечах похожий на отблеск луны в воде, живот сейчас выглядит тяжелым, пупок уже не таинственный глаз, выглядывающий из пены.
Я глубоко вдыхаю и задерживаю дыхание. Я колочу себя кулаками, изо всех сил, колочу и колочу. Не помогает. Потом надеваю ночную рубашку, немного успокаиваюсь, когда мелкие фланелевые розочки прикрывают фигуру, которая мне кажется такой ужасной, чьей ненасытной жадности я стыжусь. Заставляю себя заварить чашку чая, поднимаюсь с ней на второй этаж, читаю в кровати, стараюсь не терзать себя. Но это очень трудно. Я могу съесть все сладкое, все жирное, все, что отыщется в доме, потом все соленое, вонзить зубы в хлеб, двумя руками запихивая его в рот, все быстрее и быстрее. Только тогда я сумею заснуть, насытившись, наевшись до отвала, устыдившись самой себя. Я никогда больше не вылезу из постели, свернусь под одеялом калачиком, выключу свет, задерну шторы. Я хочу оставаться в полутьме, чтобы не шевелиться, чтобы ни с кем не разговаривать. Я мечтаю о таблетке, после которой я отключилась бы, об ударе по голове, после чего наступила бы тьма.
Из собственного трудного опыта я знаю, что утром мое самочувствие улучшится. Я не имею права сдаваться. Но мне страшно. Хотя я всю жизнь боролась с депрессией, приступы ее повторяются все чаше и становятся все мучительнее, вопреки надеждам, что они пройдут, как только я соберусь с силами и потребую развода.
Я разговариваю с Ингеборг Кейси, психотерапевтом, к которой хожу, чтобы оправиться после развода, потому что именно развод считаю моей подлинной проблемой. В тишине ее комнаты я постепенно обретаю смелость. Сумеречный свет окутывает мебель и стены, темно-красный амариллис на подоконнике, струящиеся одежды Ингеборг. Здесь мы отрезаны от всего мира, здесь мы в безопасности, уличный шум где-то далеко.
Я рассказала ей, что испытываю чувство вины, оттого что ушла от мужа, о его позоре, вызванном банкротством, о потере мною сада и дома. Я признаюсь в своей депрессии, отбросив стыд. Сотни, тысячи женщин пережили нечто подобное, не обращаясь за помощью к психотерапевту. У них нет такой работы, как у меня, я пожизненно избрана профессором, могу заплатить за такое лечение. Мое привилегированное положение позволяет мне пожалеть себя, позволяет впасть в отчаяние.
Когда Ингеборг начинает расспрашивать меня о детстве, я отвечаю заученной фразой: «Я родилась в Латвии, во время войны была в Германии, в Соединенные Штаты переехала в двенадцатилетнем возрасте». Столько-то я могла сказать, столько-то и другие готовы были услышать.
— Что-нибудь случилось? — спрашивает Ингеборг. — Кажется, вы чем-то расстроены. Или это мне только кажется?
— Нет, ничего особенного. Я не могу похудеть. Стараюсь, стараюсь, но ничего не получается. Я ненавижу свое тело, — я замолкаю. — Я его презираю.