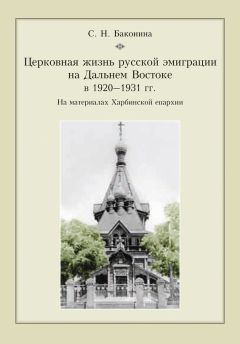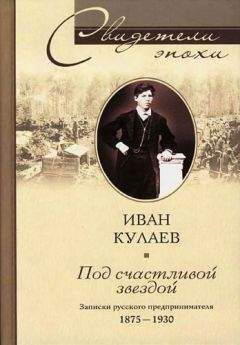Артем Анфиногенов - А внизу была земля
Днем он вежливо спровадил командира отдыхать, на ночь глядя Комлев появился снова.
Заголив по локоть тонкие руки, воентехник бренчал в ведре с бензином сливными краниками, продувал их, вставляя в рот как свистульки. «Коленвал смазан?» — намечал он очередную операцию. «Готово. Будем ставить винт». Взобравшись наверх по козлам, спросил: «Правда — нет, лейтенант, будто в эскадрилье, на Куликовом поле, подарки давали?» — «Правда». — «Мы, значит, опять ни с чем?» — «Дело такое, — сказал Комлев. — Или подарки получать, или здесь базироваться». (Комлев опасался, что на Куликовом поле, куда их зазывали, «девятку» у него отнимут.) «Обидно, товарищ командир. Вкалываем, вкалываем, а ровно как не воюем… Подняли!» Он свисал головой вниз, голос его звучал натужно. «Деревяшку!» Звеньевому подали увесистую чушку. Он постучал ею, спустился вниз. «Ну, — чтобы не бездельничать, — где ключик на одиннадцать?» — бодро спросил Комлев. «Все разложено, — остановил его звеньевой. — Ключики, болтики — все… Хозяйство не ворошить».
Невидимое во тьме хозяйство Урпалова располагалось на местах, выбранных заранее и с расчетом: в металлическом корытце, на брезенте, на ступенях стремянки. Без этого условия вести работы в кромешной тьме было невозможно. Три пары рук приращивали моторную станину к раме.
Новый мотор, пока не поставлен, не облетан, — загадка, и вся ответственность на звеньевом: он выбирал. Угадал или нет? — вот вопрос, какие бы слухи насчет сивашского рубежа обороны ни гуляли.
Навесили, затянули винт. Не бьет? То есть одинаково ли удалена каждая из его лопастей от острия неподвижно поставленной отвертки? Когда подошла третья лопасть, за их спинами над большаком поплыл моторный гул.
Воентехник распрямился, держась одной рукой за винт.
Комлев тоже замер.
Это могли быть немцы, танкетки немецкого воздушного десанта.
Если саперы на большаке завяжут бой, надо уходить.
Гудение возросло и прокатилось, затихая.
Пальба не началась.
Комлев неслышно перевел дух.
Урпалов принюхался, где у него тавот, где масло.
Масло ему не понравилось, распорядился прикатить другую бочку.
Они остались в темноте вдвоем.
На севере, в той стороне, куда прогромыхала наша мото-мехколонна, по краю неба занимались и гасли медленные фиолетовые зарницы.
— Будто хлеба выспевают, — заметил Комлев. — Это перешеек горит, — возразил Урпалов. — Не все на земле ошиваются, — продолжил он, не зная, на ком сорвать злость. — Там, говорят, ИЛы работают. До того будто доходит, что рельсы к хвостам самолетов привязывают и теми рельсами боронуют стоянки немецких аэродромов…
Они долго смотрели на всполохи осенней ночи, в тревожном свете которой домысел Урпалова о летчиках-штурмовиках обретал черты правдоподобия, реальности, — как все, что способно было противостоять и противостояло вражескому нашествию.
— ИЛ не мой самолет, — проговорил Комлев. — Не нравится мне «горбатый». На ИЛ я не сяду. Хоть в штрафбат, хоть куда — не сяду.
Он под звездами вышел к своей палатке, прикорнул у кого-то в ногах.
— Лейтенант, а, лейтенант, — тут же затормошили его, — на стоянку!
Светало, над степью гулял ветерок. Первое, что увидел Комлев за хвостом «девятки», была витая нитка небесного канта авиационной фуражки, сформованной на особый манер, с высоко поднятым задником; так носил фуражку единственный знакомый ему человек — генерал Хрюкин.[1] И это действительно был он.
Хрюкин командовал авиасоединением, в состав которого входил полк, где служил Комлев. Вряд ли помнил генерал их короткую встречу под Уманью. Момент был тяжкий… Каждого, кто возвращался и докладывал ему, Хрюкин спрашивал об одном: «Что наблюдали?.. Покажите точку удара!» Его окружали командиры штаба, он смотрел не на летчика, не на штурмана — в карту. Весь был в ней, в быстрых микросмещениях линии фронта. Надежд они не оставляли.
Когда подошла очередь Комлева, генерал отвлекся от планшета: «Высоковато подвесили, товарищ лейтенант! — Стало быть, видел его посадку. В моложавом лице Хрюкина просвечивала горечь, пережитая с такой силой, что, вероятно, и в добром расположении духа следы ее смягчаются не скоро. — Или не вы сажаете самолет, а самолет сажает вас?»
Комлев знал, что приземлился грубо, с высокого выравнивания, но, весь под впечатлением Умани, понесенных группой потерь, досадовать на себя или на посадку не мог; и то, что генерал желчно выговаривал ему за скверный подход к земле, не задевало Комлева: суть была не в словах генерала, не в посадке, а в сломанной линии фронта, в отчаянном положении нашей пехоты, зажатой в танковых клещах врага…
С какой целью появился Хрюкин сейчас в степном Крыму, Комлев не знал.
— По сводке задействованы две машины, фактически в строю ни одной. Причина? — спрашивал генерал, обнаруживая знание дел в эскадрилье.
Приподняв подбородок, он косил внимательный глаз на звеньевого.
— За эскадрилью не скажу, товарищ генерал, мы у них пасынки, а на «девятке» моторы стоят. Так что… — Отступив в сторону, чтобы не загораживать самолет своей сухонькой фигуркой, воентехник указывал на него глазами.
— Резервный командир готов? — спросил Хрюкин. — Ко мне… Экипаж сколочен? Сработался?
— Сменщики наши пока что не крещеные, — уклончиво ответил Урпалов.
— Сменщики остались в цеху! В профячейке. А в армии, товарищ старший воентехник, существует боевой резерв, который в плановом порядке формируется командованием…
— Резервный летчик взлетает и садится грамотно, — вставил Комлев. — Но — один.
— Что ж такого, что один. — Хрюкин всматривался в запотевшие грани узкой кабины «девятки», и неожиданно: — Для генерала место найдется?..
«Уходим, — не поверил собственным ушам Комлев. — Берем генерала на борт, с ним уходим…»
— А если каждый будет хапать, что под руку попадет, — продолжал Хрюкин, — выезжать на готовеньком, то много мы не навоюем. Нет. Все профукаем… Все! — возгласил он с пугающей злой веселостью.
Восемь лет назад Тимофей Хрюкин, самый рослый среди курсантов летной группы, впервые был поставлен в голову траурной колонны. Держа на ладонях фуражку инструктора красной звездочкой вперед, он по булыжной мостовой степенным шагом выводил печальную процессию к городскому кладбищу. Самолет свалился в штопор средь бела дня, на учебном «кругу», и первой рванулась с места, скинула с себя оцепенение комиссарская «эмка», помчавшись в ДНС, куда страшные вести доносятся словно бы взрывной волной, и женщины, бывает, кидаются в садик за детишками или к проходной училища. Комиссар, говорят, поспел вовремя. Авиаторов в городе любили, на похороны высыпал и стар, и млад. Очутившись в центре внимания, Хрюкин боялся не так ступить, не туда повернуть. На кладбище, в лабиринте могил с деревянными пропеллерами вместо надгробий, он следовал тихим командам распорядителя, отлаженному механизму похорон… Братские могилы. Летчики, штурманы, техники. Сколько их?.. Отряд? Эскадрилья? Газеты о них не писали, радио не сообщало. Он дошел до указанного места, встал. На откинутой глине белели расправленные веревки. «Нелепый случай…», «Тяжело сознавать…» — говорили ораторы. Он слушал, как если бы они обращались к нему одному. Однако никто ни единым словом не заикнулся о том, что камнем легло ему на душу. Что авиация — не только взлет, признание, слава, но также и возможность раннего расчета с жизнью. Без всякого в ней следа. Вот он перед глазами, наглухо забитый гроб с останками.