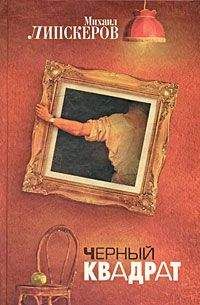Михаил Сухачёв - Небо для смелых
Рано наступившая темнота усиливала в комнате гнетущую атмосферу. Становилось жутко.
Отец умирал долго и мучительно. В течение целой недели он то терял сознание и успокаивался, то приходил в себя, и тогда с первым булькающим хрипом гримаса боли искажала его лицо. Страшно было смотреть на вконец измучившуюся мать. Она уже не могла плакать, а только отрешенно причитала: «Господи, смилуйся над ним, возьми быстрее его душу грешную, чтобы он так не страдал…»
К отцовскому хрипу привыкнуть было нельзя. Особенно тяжко было слушать его ночью. Все засыпали мгновенно, едва только Савва Федорович терял сознание, и просыпались с первым его хрипом. Поэтому никто, даже мать, не почувствовали, когда он умер. Ближе к утру хрип прекратился, и все заснули. Проснувшись, Мария Яковлевна, спавшая на стуле у стола, издали увидела, что отец мертв.
— Вставайте, дети, — почти спокойно сказала она, — отец отмучился.
Сестра Зина с матерью поехали в контору Ечкина, который бежал за границу во время октябрьского восстания. Многое здесь изменилось. Но старые ямщики, хорошо знавшие отца, дружно откликнулись помочь похоронить бывшего управляющего конным двором.
* * *Исподволь, понемногу, ненастойчиво Женя начал уговаривать мать отпустить его в Красную Армию.
— И не думай, мал еще, хватит большевикам и одного Васи, — как бы оправдывала Мария Яковлевна свое нежелание отпустить Женю. Старший сын уже служил в авиационных частях Красной Армии и слал письма теперь из-под Твери.
После того как отца не стало, казалось, отпало основное препятствие на пути осуществления давнишней Жениной мечты. Желание усиливалось каким-то недетским чувством ответственности перед революцией; каким-то осознанием вины из-за того, что в самые ответственные дни вооруженного восстания он в отличие от Семки просидел дома у постели умирающего отца.
А сейчас разве мама поймет, что со всех сторон и афишных тумб прямо в сердце, как в десятку, нацелен вытянутый палец красноармейца с пробойным, как пулеметная очередь, вопросом: «Ты записался в Красную Армию?» Это воззвание звучит набатом, обвиняя в нерешительности. Нет, дальше так нельзя, надо что-то делать.
Вечером забежал Семка и рассказал, что его отец проводил запись добровольцев в Красную Армию на бывшем заводе Гантера, а теперь сам назначен комиссаром автоброневого отряда и отправляется на фронт под Псков.
Вся ночь прошла в раздумьях, как записаться в Красную Армию. Едва рассвело, Женя выбежал на улицу. Ему казалось, что эти проклятые трамваи еще никогда не тащились так медленно, как сегодня. Не доходя до проходной завода Гантера, Женя остановился и, воровато озираясь, стал подкладывать под пятки в старые отцовские сапоги большие комья ваты. Идти было неудобно, но зато теперь он был выше ростом. Потом достал из кармана сверток с промасленной ветошью, тщательно вымазал руки, почти с удовольствием протер лицо и вошел в помещение вслед за двумя рабочими.
В дальнем углу комнаты стоял длинный стол, за которым сидели двое мужчин: один с виду рабочий, другой, постарше, в полувоенной одежде. Справа от них, на куске фанеры, размашисто-крупно было написано: «Да здравствует рабочая и крестьянская Красная Армия!» Ниже, уже на куске серого картона, тем же шрифтом: «Запись в Красную Армию». Еще ниже были наклеены какие-то печатные и рукописные листки.
Оттого, что Женя грохал своими неудобными для ходьбы сапогами, оба мужчины разом подняли от бумаг головы, видимо предполагая, что в комнату въехал броневик. Женя почувствовал, как смелость вместе с сердцем покинула свое достойное место в груди и завязла где-то в пятках.
Не увидев ничего интересного, мужчина, стоявший первым в очереди, возобновил прерванный спор.
— …Ты, Минька, не дури и не корчи из себя начальника, а то враз дам по шее, как прежде. Я ведь тебя, сопляка, слесарить учил, а ты… Пиши в Красную Армию!
— Дядя Семен, я же тебе который раз объясняю, что по решению заводского комитета ты, как опытный мастер, остаешься на заводе.
Воспользовавшись накаляющейся обстановкой, Женя, подобно цапле, высоко поднимая ноги, дотопал до конца очереди. Постепенно успокаивалось волнение.
— А тебе чего? — обратился к Жене еще не остывший Минька, оглядев очередь.
— Чего и всем, не за хлебом пришел, — старательно комкая ветошь, пытался скрыть дрожь в руках Женя.
— Ну ты посмотри, один старый хрен, другой — воробей еще без перьев, — прямо по сердцу резанул Минька. — Здесь в Красную Армию, а не к няньке записывают.
— Сам ты воробей, мне семнадцать, понял? Минька начал багроветь, назревал новый кризис.
Тут уже он мог дать по шее.
— Постой, Михаил, — вмешался в спор тот, что был постарше. — Остынь малость, а то всех разгонишь… Ты откуда, где работаешь, сколько лет? — обратился он к Жене.
— Меня рекомендует дядя Федя Камешков. — Это был последний козырь, которым Женя хотел отбиться от всех остальных вопросов.
— Рекомендация достойная! А сколько тебе лет по совести? — настаивал пожилой рабочий.
— Я сказал — семнадцать.
— Брешет он, — словно ужаленный выпалил Минька, — и вообще, вали отсюда.
— Цыц, ты! — прикрикнул на Миньку старший. — Вот что, как тебя…
— Птухин Евгений Саввич.
— Ты, Евгений Саввич, принеси-ка метрику о рождении, вот тогда и разберемся. Понял? Ну вот и хорошо… А записываться в Красную Армию нужно идти умывшись… Как в церковь.
Это был крах надежды. Медленно повернувшись и уже не обращая внимания на сваливающиеся грохочущие сапоги, Женя, еле сдерживая рыдания, вышел. Все сразу опостылело: и хмурое, еле просыпающееся утро, и мерзко чавкающий полурастаявший грязный январский снег, и лица идущих навстречу рабочих.
На набережной Москвы-реки он с остервенением вытряхнул из сапог ненужные комья ваты, швырнул паклю и, на ходу сгребая с парапета снег, чтобы вытереть лицо, побрел к центру. Но постепенно чувство безнадежности начало таять. В голове вызревал новый план: переправить справку о рождении. В Красную Армию он должен попасть. Ради такого святого дела согласен он пойти на самый тяжелый в семье Птухиных грех — ложь.
Дома, достав из-за иконы хранящиеся там документы, Женя нашел свою изрядно потрепанную, пахнущую лампадным маслом метрику. Осторожно расправив ее на столе, прочитал ненавистное: «Год рождения 1902» — и стал соображать, как из последней цифры 2 сделать 0. Потом старательно оттер нижний кончик у рахитично головастой двойки, подровнял пером попорченную нижнюю часть цифры и отставил документ на расстояние вытянутой руки для обозрения. В общем-то неплохо. Если бы не подавать ее в руки глазастому Миньке!