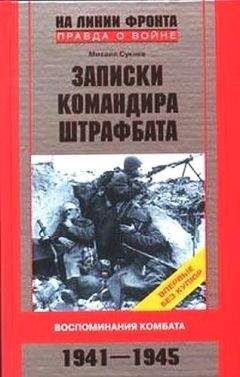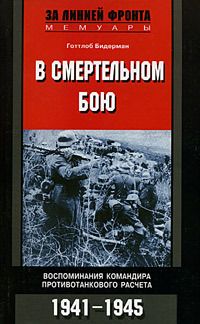Сукнев Михаил - Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата 1941–1945
Комиссар Мясоедов и наш оперуполномоченный особого отдела Дмитрий Антонович Проскурин донесли Лапшину об этом «фортеле». Но тот до времени затаился, поняв, что я его «сильно поправил» в проведении разведки.
…Одно меня устраивало — лучше быть в Лелявине под огнём врага, чем встречаться с Лапшиным. Тут мы были хоть в огне ада, но вдали от бездарного начальства. К нам можно было попасть только песчаным берегом Волхова, ночью. Днем берег простреливался противником с берегового выступа на километр.
Чтобы не допустить какую-либо «комиссию» или проверяющих от полка и дивизии, нечего делать, по совету комбата Алешина я открывал стрельбу из ручного пулемета по огневой точке противника на береговом выступе, который был выше нашего всего на какой-то метр. Фриц отвечал, и пули сыпали «вдоль по Питерской» — по берегу. Незваные гости «сматывали удочки», так и не побывав у нас. Но были и желанные гости, таких я сам сопровождал от лога. В логе у нас располагались медсанвзвод во главе с Николаем Герасимовым и хозяйственный взвод Федорова, энергичного незаменимого техника-интенданта (звание, приравненное к старшему лейтенанту).
Командиром же нашей 225-й стрелковой дивизии был полковник Петр Иванович Ольховский — доброй души человек, но полководец липовый. В 3-й танковой дивизии он был начальником артиллерии, а приняв командование стрелковой дивизией, занялся не своим делом, стал именно «сапожником, который начал печь пироги»…
* * *…В начале марта 1942-го мы буквально «поплыли» — траншеи заполнила снеговая вода после сильных оттепелей. По всей обороне, особенно к берегу Волхова, вытаивали сотни и сотни убитых немцев, испанцев из «Голубой дивизии», наших бойцов и командиров…
Мы очутились посередине необъятного кладбища. Ночами похоронные команды из дивизии или армии собирали наших, складывали их «копнами» по берегу, чтобы позднее относить берегом, отвозить в тыл. Там ныне стоит высокий бетонный памятник над тысячами наших погибших в боях героев.
Прихожу на свой КП роты в центре обороны, от моего блиндажика — спуск в лог, а за ним вид вдаль по берегу. И лежат «копнами» наши бойцы, многие разуты… Жуткое зрелище — десятки этих «курганов» из мёртвых тел, где каждую минуту может оказаться кто-то из нас! Немцы и испанцы лежали по одному и кое-где кучками, как их убили зимой наши бойцы. Ночами я обычно передвигался перебежками, поверху, рядом с траншеями и ходами сообщений, где сразу начерпаешь воды и грязи полные сапоги. Но свернуть в сторону нельзя: в темноте наткнешься на будто металлические руку или ногу не оттаявшего ещё трупа… Позднее мы будем зарывать трупы наших врагов там, где они лежали, в ямки метр глубиной. Они потом по ночам светились каким-то мерцающим огнем…
Здесь после боёв останется поле, избитое воронками глубиной до пяти-шести метров от тяжелых снарядов. Поле казалось будто лунным. Ни кустика, ни травинки — голая, изрытая глина, напичканная осколками, костями и отравленная толом.
Кого больше здесь погибло? Пожалуй, одинаково. На нейтралке я насчитал немецких трупов тысячи четыре-пять. Испанцев же половину мы переколотили, половина замерзла. Как-то зашли мы в их блиндаж, человек 10–12 лежат, все застыли. Документы собрали, вернулись. Наград не получили, «язык»-то живой нужен. Смотришь, бывало, в стереотрубу или бинокль, стоит противник, обмотался одеялами, которые набрал в соседнем селе, и прыгает. Мы смеёмся, мы-то были одеты тепло.
Противник интенсивно обстреливал церковь на юру перед устьем ручья Бобров. Всю снесли снарядами. «Верующие» католики расправлялись с православной церковкой, внутри которой вырыл себе блиндаж комроты 1-й. Я ему посоветовал сменить место КП: «Врежет «тяжёлый» — могила готовая!» Он не послушал и где-то спустя трое суток, в начале апреля, во время очередного обстрела нашей обороны тяжёлым снарядом обрушило накат блиндажа и похоронило командира роты, двоих связистов и девушку-санинструктора! Разрывать не стали. Так они и по сей день покоятся в этой безвестной могиле…
Однажды ночью я пробирался напрямую оттуда к себе на КП, и срикошетившей пулей мне сбило с головы каску, прогнув ее на затылке. Это была моя смерть, но она прошла вскользь, а сколько еще будет всего впереди… Я был уверен, что ни я, ни те, кто со мной, на нашем «пятаке» не выживут, ибо этот конвейер смерти проворачивался каждую ночь: к нам поступало пополнение, привозили боеприпасы и термосы с питанием, назад в тыл — убитых, раненых и больных, иногда «пачками»!..
Своим подчинённым я приказал: рыть ходы сообщений и траншею в мой рост и плюс четверть, то есть 188 сантиметров. И сам первый брался за кирку, лопату, пешню вместе с командирами взводов. Моему примеру последовали и стрелковые роты. По мере углубления ещё не отошедшей от льда земли резко уменьшились потери в батальоне.
…Каждую неделю хотя бы однажды я избегал верной гибели. Это четыре раза в месяц, а за год? Может быть, архангел Михаил был подле меня или дьявол готовил для себя… Чуть не погиб… Это слово «чуть» было на нашем языке нормой. Кто из защитников этой «цитадели» выживал дольше всех, тот черствел душой, становился «задубевшим» и равнодушным к смерти, подкарауливавшей на каждом шагу. Мысль сидела в голове одна: хоть бы пронесло мимо снаряд, пулемётную очередь и особенно коварные мины, которые были слышны уже над головой, когда поздно укрыться!
Как-то сидим ночью у командира 3-й роты Столярова, поистине добропорядочного, интеллигентного человека. Но военным он, конечно, не был. Не мог жестко требовать, был другом каждому. «Ты — умница-преподаватель, но зачем тебя сюда занесло? Учил бы ребятню, нашу смену», — говаривал я ему. Но он, настоящий патриот, хотел быть на линии фронта… В печурке гудит огонь, вместо щепы — тол. С нами — старшина роты Севастьян Костровский, он же и внештатный писарь, недавно из тыла и тоже сельский учитель-доброволец. Рассказывает нам, как с новым пополнением численностью до взвода они несколько дней назад двигались от Муравьев сюда через село Дубровино. От самых Муравьев на поле шириной в два километра и по селу, полусожжённому, где шли ожесточенные бои в декабре, по всему пространству лежали наши убитые воины. После смерти у них отросли большие ногти, волосы, бороды и усы…
Вдруг зашелестела плащ-палатка — полог на входной двери, раздался снаружи взрыв мины, и в наш блиндаж-землянку ввалился часовой. Падая, он успел произнести: «Гады, убили!» Не выпуская из рук винтовки, он упал нам под ноги с раскроенным пополам черепом — кровь разлилась по всему полу! Я со своим ручным «Дегтяревым» вышел и залёг между этим блиндажом и своим дзотом, застыв, вглядывался «в ту сторону». И только там вылетит строчка трассы, как я бью наверняка во вражескую амбразуру. И так почти до рассвета. Только с рассветом у меня отошло от сердца то, что случилось, в который уже раз, с ещё одним защитником плацдарма…