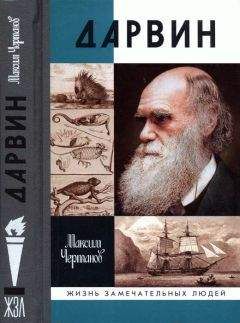Максим Чертанов - Эйнштейн
Если вы выбросите бумажку из окна едущего поезда, ее подхватит и унесет ветер, дующий навстречу, не важно, хоть ветрено снаружи, хоть штиль. Не важно, эфир движется или Земля движется в неподвижном эфире, в любом случае если что-то кинуть — эфирный ветер подхватит и понесет. Не будем мучить лирика описанием опыта Майкельсона — короче говоря, никакого эфирного ветра не оказалось. Не изменял эфир скорости света. Совсем непонятно все стало. Как жить без эфира?
В 1892 году Хендрик Лоренц (1853–1928), завкафедрой теоретической физики Лейденского университета (обаятельный человек, деликатный, душка, счастливо женатый, всеми уважаемый и любимый), и независимо от него другой физик, Фицджеральд, придумали, как помирить физику с Максвеллом. Лоренц написал свои уравнения (их потом скорректировал математик Анри Пуанкаре), и у него получилось, что если скорость света не трогать, то, чтобы уравнения сошлись, длина движущихся предметов должна увеличиваться. Ну вот представьте, что 2+3=5, а 2+3+эфирный ветер должно равняться чему-то другому. А все, как ни крути, получается пять да пять. Но нельзя поверить, что нет эфирного ветра (табу!), значит, можно как-то подогнать 2 и 3, сделать из них какие-то другие числа. Вот Лоренц и подогнал длину, и уравнения тогда сошлись. А почему так, он не знал. Он просто сказал, что, видимо, таковы уж свойства этого загадочного эфира, что он меняет длину предметов. И все продолжали что-то свое про эфир думать. Эйнштейн тоже. Возможно, это помешало ему подготовиться к экзаменам.
«Я был своевольным, хотя и ничем не выделяющимся молодым человеком, самоучкой, набравшимся (с большими пробелами) некоторых специальных знаний… С жаждой более глубоких знаний, но с не достаточными способностями к усвоению и к тому же обладая неважной памятью, приступал я к нелегкому делу учения. С чувством явной неуверенности в своих силах я шел на приемные испытания…» В октябре он срезался, провалив языки и ботанику, но блеснув по точным наукам так, что Вебер пригласил его стать вольнослушателем. Но дома решили, что это не дело и надо все-таки окончить какую-нибудь школу и на следующий год поступать. 28 октября 1895 года его отдали в швейцарскую кантональную школу в городе Аарау в 30 километрах от Цюриха. Из «страшилок» — Николай Жук: «Не проявив каких-либо способностей к учебе, а тем более желания, Эйнштейн был направлен в спецшколу в Аарау (не для отсталых ли детей?)». В школе было два отделения: классическое и технико-коммерческое, на которое поступил Альберт. Преподавали по вузовской системе — лекции, семинары, занятия в физической лаборатории, воспитывали по методике Песталоцци, выпускники сплошь шли в университеты — нет, совсем не для отсталых…
По просьбе Вебера, продолжавшего интересоваться судьбой Альберта, его взял на постой профессор Йост Винтелер, преподававший греческий и историю. Впоследствии Эйнштейн говорил, что это был самый счастливый период его жизни. Винтелеры как родители, если не лучше: с женой профессора он будет переписываться всю жизнь и звать ее «мамулей». Вообще в Аарау он стал другим человеком — общительным, бойким, сразу завел друга, Ганса Фройша; вся стеснительность улетучилась. Из воспоминаний Гана Биланда, тогдашнего студента: «Сдвинув на затылок серую войлочную шляпу, открывавшую шелковистую черную шевелюру, он шагал энергично и уверенно… Насмешливая складка в уголке пухлого рта с чуть выпяченной нижней губой отпугивала филистеров, отбивала у них охоту к более близкому знакомству. Условности для него не существовали. Философски улыбаясь, взирал он на мироздание и беспощадно клеймил остроумной шуткой все, что носило печать тщеславия и вычурности… Он бесстрашно высказывал свои взгляды, не останавливаясь перед тем, чтобы ранить собеседника… Эйнштейн ненавидел сентиментальность и даже в окружении людей, легко приходящих в восторг, неизменно сохранял хладнокровие».
Насчет сентиментальности — большой вопрос: «мамуле» Винтелер он писал, например, что пьеса в театре довела его до «мучительно-блаженных слез». Просто перед мужиками надо быть мужественным. Биланд тоже это понял, увидев его однажды играющим на скрипке: «Он был человеком двойственным, одним из тех, чьи колючие манеры служат прикрытием для ранимой души». Не ранимая, а раненая душа: малышом в Мюнхене, где «физические нападения и оскорбления были привычными», он ощетинился и, хотя в Аарау его уже никто не обижал (там училось много евреев), ощетиненность осталась. Насчет остроумных шуток — жаль, что Биланд не приводит примеры. Принято говорить о юморе Эйнштейна, но в основном это позднее сочиненные анекдоты. Возможно, он был скорее смешлив, чем остроумен. Бернард Коэн: «Контраст между его мягкой речью и его звонким смехом был огромен. Он любил отпускать шутки; каждый раз, когда он произносил что-то, что ему самому казалось удачным, или слышал шутку, обращенную к нему, он взрывался хохотом».
В Аарау ему даже нравилось учиться: отмечал профессора геологии Мюльберга, физики — Тухшмида; с удовольствием учил французский (и преуспел, хотя не был способен к языкам). В классе нашлось аж девять скрипачей, играл в школьном оркестре, даже, по воспоминаниям соученика Эмиля Отта, «с удовольствием участвовал в молодежной военной инсценировке» (!). Именно в Аарау он подумал о том, что не давало покоя Лоренцу: что будет, если лететь за световой волной со скоростью света. В лаборатории пытался сделать прибор для измерения эфира, не получилось, конечно, но навык работать руками развил и потом мастерил множество всяких вещей. Из сочинения «Мои планы»: «Если выдержу экзамены, поступлю в Политехникум в Цюрихе. Четыре года буду изучать там математику и физику. В мечтах вижу себя профессором этой области наук… Вот причины, побудившие меня избрать этот план: способность к математическому мышлению, отсутствие фантазии и практической хватки… К тому же профессия ученого дает человеку известную долю независимости».
У него был приятный мягкий голос, и он был очень красив в то время — роста, правда, маленького (168 сантиметров), зато роскошные черные кудри, ясные карие глаза и, несмотря на нелюбовь к спорту, идеальное телосложение. Мы привыкли к Эйнштейну, что ходит без носков и в халате, но это в старости, а пока он был щеголем, хотя уже тогда мог надеть какую-нибудь неподобающую шляпу или галстук, но все равно казался элегантным благодаря фигуре. Не любил, правда, причесываться (хотя до старости гордился красотой своих волос) и чистить зубы, разделяя тогдашний предрассудок, что от щеток они портятся и достаточно полоскать рот. И он — взаимно — полюбил дочь Винтелеров, Мари, двумя годами старше него.