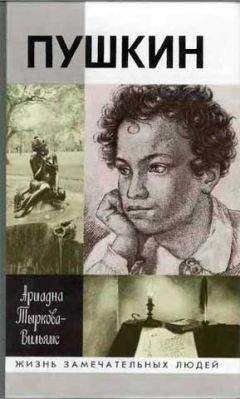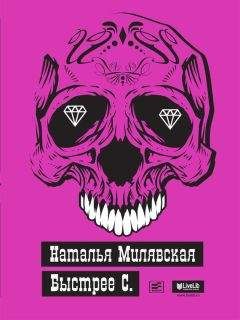Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837
Пушкин попал в глупое положение и поспешил написать Мойеру: «Ради Бога не приезжайте и не беспокойтесь обо мне. Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтоб отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания. Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести» (29 июля 1825 г.).
Все были сбиты с толку, Языков, тогда еще дерптский студент, писал брату: «Письмо (Пушкина к Мойеру. – А. Т.-В.) очень учтиво и сверкает блесками самолюбия. Я не понимаю этого поступка Пушкина. Впрочем, едва ли можно объяснить его правилами здравого разума» (9 августа 1825 г.).
Наконец друзья сообразили, в чем дело. Близкая приятельница Жуковского, А. А. Воейкова, писала ему: «Милый друг, Плетнев поручил мне отдать тебе это и сказать, что он думает, что Пушкин хочет иметь 15 тысяч, чтобы иметь способ бежать с ними в Америку или в Грецию. Следственно, не надо доставать их ему. Он просит тебя, как единственного человека, который может иметь на него влияние, написать Пушкину и доказать ему, что не нужно терять верные 40 тысяч, с терпения. Ежели Плетнев продаст сам все поэмы вместе, то может иметь 40 тысяч и надо говорить только о деньгах, не подавая виду, что есть другие причины и также истолковать ему, что Псков – это очевидное недоразумение или можно выписать туда доктора. Одним словом, он думает, что ты один имеешь власть над Пушкиным, и просит тебя отвечать на эти письма».
Странно теперь читать наставительные письма, которые свободолюбивый Вяземский, мягкий Жуковский, даже Плетнев, робевший перед поэтом, писали ему точно школьнику, которого надо удержать от опасной шалости. Жуковский, узнав, что Пушкин отказался от услуг Мойера, а может быть, и получив письмо Воейковой (недатированное), писал ему: «Прошу не упрямиться и не играть безрассудно жизнью и не сердить дружбы, которой жизнь твоя дорога. До сих пор ты тратил ее с недостойною тебя и с оскорбительною для нас расточительностью, тратил и физически, и нравственно. Пора уняться. Она была очень забавной эпиграммой, но должна быть возвышенной поэмой. Не хочу ораторствовать, лучший для тебя оратор есть твоя судьба. Ты сам ее создал и сам же можешь и должен ее переменить. Она должна быть достойна твоего Гения и тех, которые, как я, знают ему цену, его любят и поэтому тебя не оправдывают» (9 августа 1825 г.).
Вяземский, мнением которого Пушкин тоже дорожил, обрушился на него еще резче. Летом, на морских купаниях в Ревеле, он подружился с Ольгой Пушкиной и принял ее точку зрения на поведение Пушкина. Она показала письмо, которое Пушкин ей написал после того, как узнал, что их мать подала прошение царю. В этом письме, которое до нас не дошло, Пушкин высказал предположение, что мать таким путем просто хотела выселить его из Михайловского: «Так как они будут очень довольны, когда меня не будет в Михайловском, то мне остается ждать только соответственного приказа» (Comme on sera bien à l'aise de me voir hors de Michailovskoie j'attends qu'on m'en signifie l'ordre).
Эту фразу Вяземский цитирует в своем длинном укоризненном письме и говорит, что Ольга из-за брата проплакала целый день. Вяземский удивлялся, почему Пушкин не ценит материнских хлопот и старается «все делать на перекор тем, которые тебе доброжелательствуют». Своим отказом ехать лечиться в Псков Пушкин «только подает новый повод к тысячам заключений о твоих намерениях, видах, надеждах». Он обязан ехать в Псков и тем показать, «что ты уважил заботы друзей, не отвергнул из упрямства и прихоти милости царской и не был снова на ножах с общим мнением, с общим желанием… Ты портишь свое положение. И для нас, тебя знающих, есть какая-то таинственная несообразимость в упорстве не ехать во Псков, что же должно быть в уме тех, которые ни времени, ни охоты не имеют ломать себе голову над разгадыванием твоих своенравных и сумасбродных логогрифов. Они удовольствуются первой разгадкой – что ты человек неугомонный, с которым ничего не берет, который из охоты идет на перекор власти, друзей, родных и которого вернее или спокойнее держать на привязи подальше. Уж довольно был ты в раздражительности и довольно искр вспыхнуло от этих электрических потрясений. Отдохни. Попробуй плыть по воде, ты довольно боролся с течением. Душа должна быть тверда, но не хорошо ей щетиниться при каждой встрече. Смотри чтобы твоя не смотрела в поросята. Без содрогания и без уныния не могу думать о тебе, не столько о судьбе твоей, которая все-таки уляжется когда-нибудь, но о твоей внутренности, тайности. Ты можешь почерстветь в этой недоверчивости к людям, которою ты закалиться хочешь. И какое право имеешь ты на эту недоверчивость? Разве одну неблагодарность свою. Лучшие люди в России за тебя. Многие из них даже деятельно за тебя. Имя твое сделалось народной собственностью. Чего тебе не достает? Я знаю чего, но покорись же силе обстоятельств и времени. Ты ли один терпишь и на тебя ли одного обрушилось бремя невзгод, сопряженных с настоящим положением не только нашим, но и европейским. Если приперло тебя потеснее другого, то вини свой пьедестал, который выше другого. Будем беспристрастны, не сам ли ты частью виноват в своем положении? Ты сажал цветы, не сообразуясь с климатом. Мороз сделал свое дело, вот и все. Я не говорю, что тебе хорошо, но говорю, что могло бы быть хуже… Тебя читают с жадностью. В библиотеках тебе отведена первая полка, но мы еще не дожили до поры личного уважения… Оппозиция у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях. Она не в цене у народа. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят, разумеется кроме друзей твоих, но ты им не сю дорог… Ты любуешься в гонении, у нас оно, как и авторское ремесло, не есть почетное звание, да оно и не считается званием» (28 августа 1825 г.).
Можно себе представить, как досадно было Пушкину читать эти упреки, на которые по почте было опасно по-настоящему ответить. Уж если Жуковский и Вяземский считали его стремление к свободе прихотью – «если дружба вошла в заговор с тиранством», – то у кого же ему искать сочувствия.
Ответ Пушкина Вяземскому звучит несвойственной ему горечью:
«Очень естественно, что милость Царская огорчила меня, ибо новой милости не смею надеяться, – а Псков для меня хуже деревни, где по крайней мере я не под присмотром полиции. Вам легко на досуге укорять меня в неблагодарности, а были бы вы (чего Боже упаси) на моем месте, так может быть пуще моего взбеленились. Друзья обо мне хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их проклинаю, одумаюсь, благодарю за намерение, как езуит, но все же мне не легче. Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом к избавлению, ultima ratio libertatis[12], – и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку! Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они заботятся о жизни моей. Благодарю, но черта ли в эдакой жизни. Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере могила моя будет живым упреком, и ты бы мог написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвратить негодование; выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике, лишают меня права жаловаться (не в стихах, а в прозе, дьявольская разница!), а там не велят и беситься. Как не так! – Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как и все протчие, но оно есть в природе вещей» (13 сентября 1825 г.).