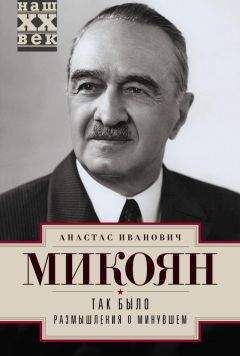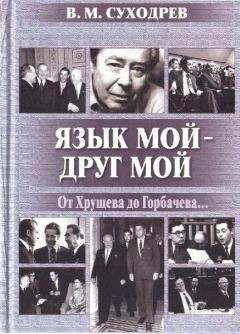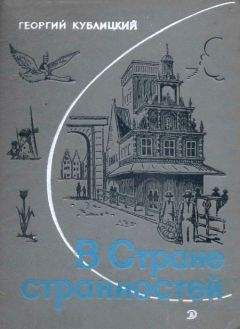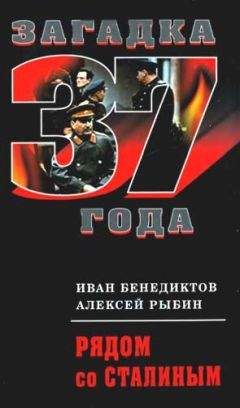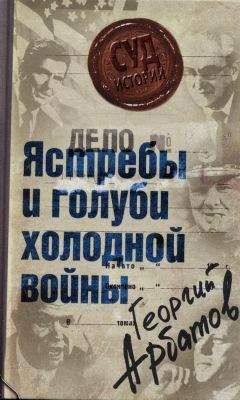Георгий Мирский - Жизнь в трех эпохах
Разумеется, в типично советском духе пропаганда была столь же энергичной, сколь примитивной и недостойной. Чуть ли не лейтмотивом звучало каждый день по радио: «Бейте вшивых фрицев!» Наряду с подлинными разоблачительными материалами о зверствах гитлеровцев распространялись всевозможные небылицы. Но дело свое пропаганда делала: ненависть к немцам была неподдельной.
Пожалуй, последним относительно нормальным месяцем был сентябрь 41-го. Карточная система уже была введена, но с продуктами было еще не так плохо. На главном фронте — Западном — было относительное затишье, немцы топтались между Смоленском и Вязьмой. Ленинград им взять с ходу не удалось. Правда, в середине сентября все были потрясены известием о падении Киева (мы, конечно, не могли знать, что в «котле» к востоку от Киева мы потеряли пленными больше 600 тысяч человек), но в остальном тревога, кажется, начала было утихать. Что касается меня, то я учился в Военно-морской спецшколе и переставлял флажки на карте, не зная еще, что уже в следующем месяце меня ждут кардинальные перемены: учеба кончится, я чуть не попаду в Казахстан, а немцы подойдут к Москве.
Большая московская паника
Утром 16 октября я отправился к родственникам; как раз накануне я забрал документы из спецшколы, и было ясно, что, раз ее решено эвакуировать, происходит что-то нехорошее. И действительно, в утренней сводке прозвучали слова: «За истекшие сутки положение на Западном фронте ухудшилось». Но только выйдя на улицу Горького, я стал догадываться, что же на самом деле произошло на фронте.
По улице мчались одна за другой черные «эмочки» (автомашины М-1), в них сидели офицеры со своими семьями (тогда они еще назывались «командиры»), на крышах машин были привязаны веревками чемоданы, узлы, саквояжи, какие-то коробки. Необычное и непонятное зрелище. Все стало ясно, когда я подошел к дому на углу Васильевского переулка, где жила моя тетя, сестра матери, с мужем, полковником авиации. Он как раз вышел из квартиры и садился в машину; при мне он спрашивал у шофера: «Как думаешь, на Горький прорвемся?» — «Попробуем, товарищ полковник», — отвечал солдат. Я не мог поверить своим ушам, но полковник дядя Петя тут же успел ввести меня в курс дела. Оказывается, в черных «эмках» были офицеры штаба Московского военного округа, и они мчались из своих казенных квартир на Ленинградском шоссе в сторону Рязанского и Горьковского шоссе, из Москвы на восток… Дело в том, что рано утром штаб округа получил, как обычно, свою закрытую «внутреннюю» военную сводку, из которой следовало, что немцы прорвали фронт и уже достигли Можайска, в ста километрах от столицы. Поскольку сам факт такого прорыва свидетельствовал о том, что войска Западного фронта, видимо, разгромлены, можно было ожидать немцев в Москве с часу на час, и штабисты решили «драпануть». А уже через несколько часов рванули из Москвы и гражданские начальники. Началась паника.
До самой смерти не забуду этот день, 16 октября, единственный день в моей жизни, когда я наблюдал полный хаос, отсутствие всякого подобия власти. Радио зловеще молчало, и уже это само по себе о многом говорило: молчат уличные громкоговорители, всегда оравшие во всю мочь. Милиции на улицах нет. Городской транспорт не работает. Станция метро «Маяковская» закрыта. Никаких войск не видно. На площадь Восстания (Кудринская) вытащили откуда-то пушку и не знают, в какую сторону ее повернуть. Говорят, что мосты заминированы. Начали громить магазины, и я видел, как по улице Красина, что ведет к Тишинскому рынку, бегут люди, которые тащат ящики с водкой и другими продуктами. Как потом стало известно, многие директора магазинов и предприятий бежали из города, прихватив с собой кассу; через несколько дней они были расстреляны.
В этот необыкновенный день так получилось, что мне довелось находиться в разных районах города. Еврейская семья, жившая в нашей коммунальной квартире, решила эвакуироваться не медля ни минуты; уже было известно, как немцы поступают с евреями. Я вызвался помочь соседям и тащил вместе с ними их вещи до Комсомольской площади, откуда поезда уходили на восток. До сих пор стоит у меня перед глазами зрелище громадной площади трех вокзалов, усеянной тысячами и тысячами сидящих и стоящих людей так, что яблоку упасть негде. Все с чемоданами и узлами, все лихорадочно ожидают объявления посадки на очередной поезд — на Казань, Горький, Свердловск, Ташкент — куда угодно.
Еще запомнилось мне, как я проходил почему-то мимо Ленинской библиотеки и увидел костры: это жгли литературу из «спецхрана», и я из любопытства подобрал несколько полуобгоревших прошлогодних германских журналов с фотографиями, иллюстрировавшими победы над англичанами и французами. Почему их жгли? Да потому, что во всех учреждениях, где еще оставалось какое-то начальство, было получено указание уничтожить все секретные документы, к каковым относились и вражеские публикации. Но наибольшее впечатление производили мусорные ящики во дворах, доверху набитые книгами в красном переплете; это были сочинения Ленина. Каждому члену партии полагалось иметь у себя полное собрание произведений Ильича; конечно, официального распоряжения на этот счет не было, но подразумевалось, что большевик, достойный этого звания, должен иметь эти книги, равно как и «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный лично Сталиным. Так вот, в страхе перед приходом немцев эти красные тома тысячами выбрасывали в мусорные ящики.
А разговоры на улицах? Стоя в очереди перед закрытой дверью булочной (она открылась лишь на следующий день), я слышал такие слова: «Говорят, немцы уже в Голицыне», «А вы не слышали — говорят, Тула взята», «Да, недаром Гитлер обещал провести ноябрьский парад на Красной площади». Это говорилось открыто, люди впервые в своей жизни ничего не боялись.
А радио все молчало. Лишь к вечеру и громкоговорителях раздался какой-то шорох, и затем выступил председатель Моссовета Пронин. Он призвал население к спокойствию и пообещал навести порядок. И действительно, дня через два Москва была объявлена на осадном положении, прозвучали грозные слова: «Провокаторов и распространителей ложных слухов расстреливать на месте». Был введен комендантский час. Затем было объявлено, что генерал Жуков назначен командовать обороной Москвы. Паника улеглась, жизнь стала возвращаться в нормальную колею. Нет, впрочем, уже не в такую нормальную, как до описанных драматических событий. Во-первых, Москва страшно опустела, на улицах попадались лишь отдельные люди; из городского транспорта остались только метро, трамваи и троллейбусы, все автобусы были реквизированы армией. Во-вторых, начали строить баррикады; помню, как Смоленская, Зубовская и Крымская площади были во всю ширину перегорожены надолбами и мешками с песком. Москва приобрела суровый облик фронтового города. Налеты авиации продолжались, но воздушную тревогу уже не успевали объявлять, так как немецкие аэродромы были совсем рядом и самолеты могли долететь до столицы за несколько минут. На моих глазах среди бела дня немецкие самолеты, проносясь на бреющем полете, бросали бомбы на Садовом кольце (так был уничтожен дом Шаляпина), на Патриарших прудах, площади Маяковского и около Большого театра. В-третьих, везде ходили военные патрули, проверяя документы, то и дело по улицам маршировали воинские части, направлявшиеся на фронт, и отряды народного ополчения.