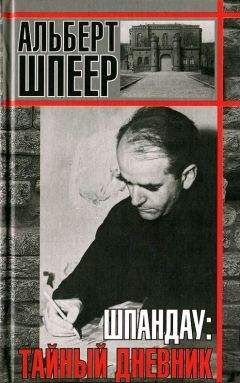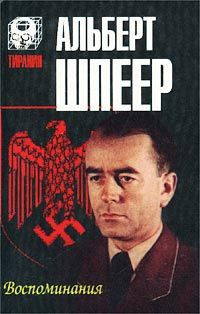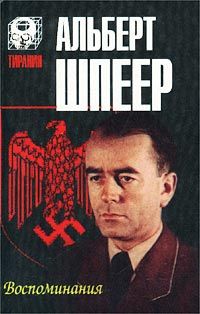Альберт Шпеер - Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. 1930–1945
Меня же больше привлекала музыка. До 1933 года мне доводилось слушать в Мангейме молодого Фуртвенглера, а позже – Эриха Клайбера. В то время Верди волновал меня больше Вагнера, а Пуччини я считал «ужасным». Я был очарован одной из симфоний Римского-Корсакова. Пятая симфония Малера казалась мне довольно сложной, но нравилась. После одного из посещений театра я отметил, что Георг Кайзер – «самый значительный современный драматург, который в своих произведениях борется с концепцией значения и власти денег». А посмотрев ибсеновскую «Дикую утку», я записал, что лидеры общества просто смешны и нелепы. Роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф» усилил мое восхищение Бетховеном[5].
Итак, роскошная жизнь в родном доме не нравилась мне не только по причине обычного юношеского бунтарства. Когда я обращался к прогрессивным писателям или искал друзей в гребном клубе и в горных альпийских хижинах, то мной руководило нечто более глубокое, чем просто дух противоречия. Молодые люди моего круга традиционно подыскивали друзей и будущую жену в том замкнутом социальном слое, к которому принадлежали их родители, но меня тянуло к простым сплоченным крестьянским семействам. Я даже испытывал интуитивную симпатию к крайне левым, хотя эта склонность так и не приобрела конкретной формы. В то время у меня была аллергия на любые политические убеждения. Так бы и продолжалось, несмотря на то что я испытывал сильные националистические чувства, как, например, в 1923 году, когда французы оккупировали Рур.
К моему изумлению, мое сочинение на выпускном экзамене оказалось лучшим в классе, и тем не менее, когда директор школы в прощальном обращении к выпускникам сказал, что теперь нам открыта дорога к великим свершениям и славе, я подумал: «Вряд ли это касается меня».
Поскольку я был лучшим математиком школы, то и решил изучать этот предмет далее. Однако отец выдвинул веские причины против моего выбора, и, знакомый, как математик, с законами логики, я согласился с его доводами. Очевидной альтернативой казалась профессия архитектора, которую я, в силу обстоятельств, впитывал с детства, и, к восторгу отца, я решил стать архитектором, как он и мой дед.
Первый семестр я проучился в Высшем техническом училище в Карлсруэ, находившемся неподалеку. Мой выбор был продиктован финансовыми обстоятельствами: инфляция необузданно росла с каждым днем. Мне приходилось еженедельно снимать со счета деньги на жизнь; к концу недели сказочная по числу нулей сумма превращалась в ничто. Из Шварцвальда, где я путешествовал на велосипеде в сентябре 1923-го, я написал: «Здесь все очень дешево! Жилье – 400 000 марок в день, а ужин – 1 800 000 марок. Молоко – 250 000 марок за пол-литра». Шесть недель спустя, незадолго до прекращения роста инфляции, обед в ресторане стоил от десяти до двадцати миллиардов марок, и даже в студенческой столовой – больше миллиарда. За билет в театр приходилось платить от трехсот до четырехсот миллионов марок.
В конце концов финансовые бури вынудили мою семью продать торговую фирму и фабрику покойного деда за ничтожную долю их истинной стоимости, зато в краткосрочных долларовых казначейских векселях. После этого мое месячное содержание увеличилось до шестнадцати долларов, на которые я мог жить беззаботно и даже роскошно.
Весной 1924 года, когда с инфляцией было покончено, я перевелся в Высшее техническое училище Мюнхена. Хотя я учился там до лета 1925 года, а Гитлер после выхода из тюрьмы весной того же года снова привлек к себе внимание, я его деятельности не заметил. В длинных письмах невесте я сообщал только, что засиживаюсь за книгами далеко за полночь, и напоминал о нашей общей цели: пожениться через три-четыре года.
В каникулы мы с моей будущей женой и несколькими приятелями-студентами часто отправлялись в горные походы по Австрийским Альпам. Трудные восхождения приносили нам ощущение реальных достижений. Иногда, несмотря на бури, ледяные дожди и холод, я упрямо убеждал товарищей не останавливаться на полпути, хотя, когда мы все же добирались до вершин, туманы не позволяли любоваться роскошными видами. Люди, жившие в долине и скрытые от нас густой серой пеленой, казались нам жалкими, а себя мы считали выше их во всех смыслах. Молодые и самонадеянные, мы были убеждены в том, что в горы идут только лучшие. Возвращаясь с горных пиков к нормальной жизни долин, я совершенно терялся в городской суете.
Мы искали «близости к природе» и в походах на складных байдарках. В те дни этот спорт еще был в новинку, суденышки самых разных видов и размеров еще не успели заполонить реки. В идеальной тишине мы плыли по течению, а вечерами ставили палатки в самых красивых местах. Неторопливые горные и лодочные походы приносили нам счастье, какое наверняка испытывали наши предки. Даже мой отец в 1885 году предпринял путешествие пешком и в конных экипажах из Мюнхена в Неаполь. Позднее, уже объехав всю Европу на автомобиле, он не раз говорил, что то давнее путешествие было самым прекрасным в его жизни.
Многие наши сверстники искали контакта с природой. Это был не только романтический протест против ограниченности буржуазного образа жизни, но и бегство от все возрастающих сложностей окружающего мира. В городах мы чувствовали его шаткость, а на природе – в горах и речных долинах – ощущали гармонию мироздания. Чем более девственными были горы и речные долины, тем больше они нас манили. Я не принадлежал ни к одному из молодежных движений, ибо массовость их сводила на нет то благодатное уединение, которого мы жаждали.
Осенью 1925 года вместе с группой мюнхенских студентов-архитекторов я перевелся в Высшее техническое училище, расположенное в одном из районов Берлина – Шарлоттенбурге. Я хотел учиться у профессора Пёльцига, но число мест в его группе было ограничено; поскольку я был не силен в черчении, меня не приняли. В общем-то я уже начинал сомневаться в том, что когда-нибудь стану хорошим архитектором, и принял приговор без удивления. На следующий семестр в училище пригласили профессора Генриха Тессенова, непревзойденного мастера простой изысканности, который верил, что максимальной выразительности в архитектуре можно достичь самыми ограниченными средствами. Его девиз был «Решающий фактор – минимум помпезности». Я немедленно написал своей невесте:
«Мой новый профессор – самый замечательный, самый здравомыслящий человек из всех, кого я когда-либо встречал. Я без ума от него и работаю с величайшим рвением. Он не современен, но в определенном смысле гораздо современнее остальных. Со стороны он кажется лишенным воображения и рассудительным, совсем как я, но в его творениях чувствуется необыкновенная глубина и основательность. У него необычайно острый ум. Я приложу все свои силы, чтобы на следующий год попасть в его «мастер-класс», а еще через год попытаюсь стать его ассистентом. Разумеется, все это слишком оптимистично и в лучшем случае означает лишь намеченный мною путь».