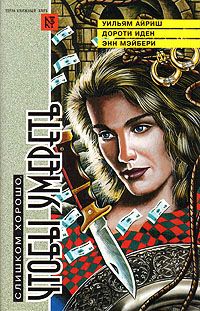Екатерина Матвеева - История одной зечки и других з/к, з/к, а также некоторых вольняшек
— Да мало ли где!
Больше карты ничего не знали. Гадалка денег не брала, только продуктами. У забора стояли желающие узнать свою судьбу.
Осиротел не только Надин дом. Из школы не вернулись многие старшеклассники. В редком доме не оплакивали погибших. Тяжко было возвращаться к себе, видеть, как тает на глазах мать, убиваясь в тоске, слышать ее надрывный плач.
Однажды поздним вечером, когда Надя уже водрузилась на свой скрежещущий диван, мать подошла и присела на край в ногах у нее.
Помолчав недолго, она, как бы вспоминая что-то из далекого, задумчиво сказала:
— Знаешь, а я их тогда видела…
— Кого мам? — насторожилась Надя, ожидая, что ей опять мать расскажет какой-нибудь «вещий» сон.
— Немцев, убийцев моего мужа и сына, — совсем просто и беззлобно сказала Зинаида Федоровна.
Надя испуганно отшатнулась, внимательно всматриваясь в ее лицо, — ей показалось неладное. «Час от часу не легче!»
— Ты что так смотришь? Думаешь, я… Нет, правда!
Не зная, что и подумать, Надя промолчала.
— Помнишь, два года назад, как раз в эту пору, немцев по Москве гнали?
— Помню! Ну и?..
— Я тебе тогда не сказала, что смотреть их ездила. Думала, отведу душу, прорвусь и плюну в морду мерзавцам. От вокзала дошла до Садовой, смотрю, толпится народ. Спрашиваю: что, немцы? Вот ждем, говорят. Ну и я встала на углу, где часы на башне, в аккурат против метро «Красные ворота». Ждали долго, а народ все подходит. Вдруг зашумели все разом: «Ведут, ведут!» И правда, показалась их туча, видимо-невидимо. Строем идут, медленно, только слышно, как подошвы по асфальту шаркают, по краям наши красноармейцы с автоматами, с собаками. Испугалась я тогда. Ну, думаю, разъярится толпа, несдобровать им, и автоматы не спасут. Ан, не тут-то было. Идут они, как собаки побитые, и, чудится мне, что стыдно им, превратили их в скотину, стадом гонят. Совсем молоденькие есть, мальчишки, есть и пожилые, отцы. Не выдержала я, крикнула: «Что же вы, проклятые, наделали? Себя сгубили и нам столько горя принесли!» Мужчина, рядом со мной тоже крикнул: «Кровопиец Гитлер заварил кашу, гад! А эти что? Пушечное мясо, погнали, как баранов, на бойню». И веришь ли, как услышала я такое, так вроде и жаль мне их стало: хоть дрянь, но ведь люди… Оглянулась на толпу, ни в ком злобы не вижу. Стоят сердитые, насупились, молчат. Кабы самого главного вели, тут уж его толпа в клочья разорвала бы. А эти! Что с них взять? Смотрела я, смотрела, который же из этих душегубов нас с тобой осиротил, да так всю колонну и пропустила. Вот я все и думаю, как же так можно допустить, чтоб один выродок рода человеческого столько людей обездолил? Неужто не нашлось доброй души голову ему оторвать?
— Значит, не нашлось, — позевывая, ответила Надя, для нее эти проблемы уже не представляли интереса, она жила будущим. Жизнь сулила ей только счастье. Счастье учиться петь! И думать о том, как лучше, как красивее петь, чтоб иметь успех, чтоб нравиться людям и чтоб люди любили тебя и хотели слушать. А что может быть радостнее? Все огорчения и беды — все это пустяки, нужно только скорее окончить школу. А школа платила за невнимание черной неблагодарностью. Училась Надя из рук вон плохо. Учителя не беспокоили мать, зная и сочувствуя ее горю. И Надя не училась, а кое-как волокла учебу. С отсутствующим видом сидела она на уроках, мысли ее витали совсем не в пределах школьной программы.
— Михайлова! О чем я говорю? — спрашивает внезапно учитель истории Петр Алексеевич, добрейший человек, с юношеской пылкостью влюбленный в свой предмет.
Михайлова не слышит: перед ней ноты «Жаворонка» Глинки.
Она усердно учит текст, губы ее шепчут: «Не слыхать певца полей… что поет…»
— Проснитесь, Михайлова! — Петр Алексеевич всех девушек 9—10 классов величает на «вы» или «барышни».
Толчок в бок соседкой по парте, и Надя, очнувшись, озирается…
— Что? Чего?
— Встаньте, барышня, и скажите, о чем я рассказываю, — не теряя самообладания, спокойно спрашивает Петр Алексеевич.
— О Кронштадтском мятеже, — участливо шепчет Тося Фролова, соседка.
— О Кронштадтском мятеже, — повторяет Надя.
— Верно! Так вот скажите нам, когда и где он произошел, причины?
Михайлова стоит столбом, класс хихикает, подсказки несутся со всех сторон, а потому уловить их нет никакой возможности.
— В августе месяце… — под громовое ржание начинает Надя.
В класс просовывается чья-то голова. Интересно ведь, почему такой хохот?
— Т-а-а-к… в августе… хорошо… — злорадно тянет Петр Алексеевич. — А скажите, Михайлова, вы такие стихи Багрицкого помните?
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед…
— Помню, — врет, не смущаясь, Надя.
— Так как же подавлялся мятеж? Видимо, вплавь, с пулеметами и винтовками, а?
— Нет!
— А как же тогда?
— Как же, как же, — грубит Надя, ей стыдно и зло берет: зачем ей знать о каком-то мятеже в Кронштадте… — Откуда я знаю — как!
— Слушать надобно, Михайлова, уши-то вам на что даны? Шапку держать, чтоб на глаза не съехала, а? Дремлете, барышня, на уроках, — выговаривает Петр Алексеевич скрипучим старческим голосом.
Обидно! Ведь она не дремала вовсе. Она пела и слушала хрустальный аккомпанемент чудесной мелодии…
Все дело в том, что Надя уже второй раз ходила заниматься пением. Сложилось так удачно, просто удивительно.
В ту пору жила в Малаховке жена известного художника Крылова, Дина Васильевна, в прошлом сама «отменная певица», как сказала «маркиза», но с возрастом ушла со сцены и тихо доживала свой век в обществе старой женщины, не то служанки, не то родственницы. К ней-то и направилась, набравшись смелости, Надя. Сначала Дина Васильевна встретила ее с прохладцей.
В дом не пригласила. Говорили в саду. Потом, узнав, в чем дело, заметно оттаяла. Когда же Надя рассказала, как ее слушали у Гнесиных, и назвала Веру Владимировну Люце, хозяйка всплеснула руками:
— Верочка Люце! Ах, силы небесные, да ведь мы с ней у Зимина одни партии пели. Ах, какой голос был! Легкий, подвижный, и собой как хороша!
Оживленно блестя помолодевшими глазами, Дина Васильевна еще долго выспрашивала Надю об училище Гнесиных и многое другое.
— Вот в чем дело, — сказала она, наконец, переходя на деловой тон, — денег ты мне платить не сможешь, верно? Да я и не возьму никогда, мне не нужно. А вот кое-что по дому помочь мне необходимо. Нюра, моя помощница, руку обварила, очень сильно! Теперь надолго. Вот хорошо бы белье постирать… Мыло я дам…
— Конечно, пожалуйста, и полы могу помыть, и что другое… Я могу.
— Можешь, можешь, верю, — улыбаясь, сказала Дина Васильевна и пошла в дом за бельем.