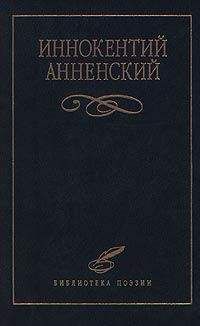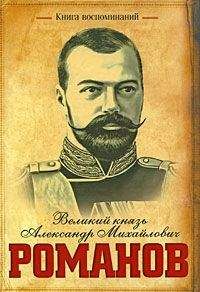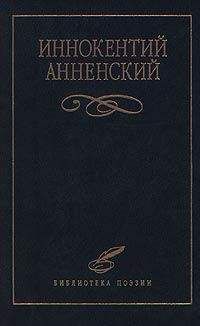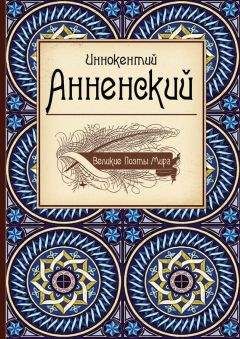Повесть моей жизни. Воспоминания. 1880 - 1909 - Богданович Татьяна Александровна
Это случилось 30 ноября (13.XII) 1909 года.
Повесть моей жизни. Воспоминания 1880-1909
* * *
Мне хочется в нескольких словах объяснить, почему я надумала писать свои воспоминания, хотя в моей жизни не было ничего исключительно интересного.
Правда, мои литературные и нелитературные друзья давно убеждали меня писать свои мемуары, даже вменяли мне это в обязанность, ведь благосклонная судьба сталкивала меня в течение моей долгой жизни со многими крупными и интересными людьми. Но для того, чтобы воссоздать их образы, по крайней мере, не умалить их, надо иметь талант, которого я в себе не ощущаю.
Дело решило не это.
Каждому человеку хочется еще некоторое время продолжать жить после смерти. Некоторые избранные продолжают жить в своих делах или произведениях, картинах, статуях, книгах. Я, конечно, не так глупа и не так наивна, чтобы воображать, будто несколько моих книжонок для юношества, с каким бы увлечением и любовью я их ни написала, могут пережить меня.
Остается родовая преемственность.
У меня есть внук и четыре внучки. Внука я, к сожалению, совсем не знаю. С внучками я живу с самого их рождения, и одна из них, по общему мнению, похожа на меня. Но мои внучки так еще малы — старшей шесть лет — что через месяц или два после моей смерти они совершенно забудут меня. Вот мне и захотелось напомнить им о себе, когда они достигнут юношеского возраста. Мне, по крайней мере, было бы очень приятно, если б я могла познакомиться с жизнью моей бабушки, а особенно прабабушки, о которой я слышала кое-что очень интересное. Но они обе промелькнули и исчезли, как тени.
Думаю только, что мои внучки, прочитав мои воспоминания, останутся сильно разочарованными.
— Ну и сухарь же была наша бабушка. Как это ни странно, она, видимо, когда-то тоже была молода. И что же? Какие-то кружки, курсы, журналы и ни слова о том, что для всякой нормальной женщины составляет главный интерес жизни. Неужели же она не влюблялась, у нее не было романов? Ведь еще совсем молодой она стала вдовой. А до замужества?
И, конечно, внучки мои будут правы в своем возмущении.
Но тут уж ничего не поделаешь. Писать об интимной жизни мне трудно, если не невозможно. Им придется довольствоваться тем, что краем уха слышали их матери или остаться при убеждении, что их бабушка, с которой они прожили младенческие годы, скучный сухарь.
Оставляю их при этом убеждении и прощаюсь ними теперь уже навеки.
Первые годы жизни. Сибирь
«Милый папа, я здорова и нас еще не выслали». Так писала я крупными буквами своему отцу, жившему в Перми, из Петербурга.
Обыски, аресты, высылки, это была обычная атмосфера, окружавшая петербургскую интеллигенцию в конце 70-х и начале 80-х годов.
Во время обыска у моего дяди, Николая Федоровича Анненского (я воспитывалась у него после смерти матери) я удивила жандарма, спокойно усевшись с книжкой за свой столик, когда меня ночью подняли.
— Что за странный ребенок! — сказал дяде производивший обыск жандармский офицер.
— Вы так приучили наших детей к своим визитам, — сказал дядя, — что они больше не удивляются и не пугаются даже ночью.
Утром моя тетя, детская писательница, Александра Никитична Анненская, сказала мне:
— Ты не рассказывай, Таня, Леле, что у нас было ночью. Он не поймет.
— Как же так, теточка? — изумилась я — Ведь у него образованные родители. Неужели у них никогда не было обыска?
Первые слова, которые я разобрала самостоятельно, научившись читать, было заглавие тогдашней газеты: «Голос, газета литературная и политическая».
— Политическая! — с недоумением повторила я. — Разве позволяют так прямо писать?
Я считала, что «политическая» — это что-то запретное. Политические бывают ссыльные, но про них открыто говорить и писать не позволяется.
После этого обыска моего дядю арестовали, и я, вставши утром, увидела на двери его комнаты печать. Конца обыска я не дождалась, заснула раньше и решила, что дядя запечатан в своей комнате. Прежде, чем тетя встала, я составила целый план, как мы с ней будем кормить дядю, нарезая тоненькими ломтиками булку, мясо, ветчину и просовывая их на бумажке в щель под дверью.
Тетя объяснила мне, что это не понадобится — дядю увезли. А вслед за тем его отправили в Вышний Волочок, в пересыльную тюрьму.
В то время были две такие пересыльные тюрьмы — в Вышнем Волочке для арестованных в северных городах и в Харькове для южан.
Там комплектовались этапы по разным сибирским путям, северному и южному.
Дядю арестовали в середине зимы 1879–1880 года и ему пришлось просидеть в Вышнем Волочке несколько месяцев, так как этапы отправлялись по возможности водными путями, на баржах.
Вскоре тетя, забрав меня, — своих детей у нее не было — тоже поехала в Вышний Волочок. Назначенным к ссылке в Сибирь давали еще в тот период революционного движения свидания с родными.
В Вышневолоцкой тюрьме дядя познакомился, между прочим, с Владимиром Галактионовичем Короленко. Знакомство это, по возвращении их обоих из Сибири, перешло в тесную дружескую связь, продолжавшуюся в течение всей их жизни.
Для свиданий с В. Г. Короленко в Вышний Волочок приехали его мать и сестра, и моя тетя скоро тоже дружески сблизилась с ними. Они вместе ходили на свидания, забирая с собой и меня. Эвелина Осиповна Короленко, полька по рождению, была прекрасная хозяйка. Она испекала к дням свиданий множество вкусных вещей. Но в тюрьме было правило, что посетителям не разрешается ничего передавать заключенным. То были еще идиллические времена — до 1 марта, а смотритель тюрьмы, Ипполит Лаптев, был хоть и страшный формалист, но, по существу, довольно добродушный человек, и запрещение удавалось обойти.
На свидание мать Короленко приносила целую корзину разных съедобных вещей, а на возражения надзирателя, говорила, что это для меня. Не может же девочка сидеть не евши.
Свидания были общие и происходили в большой комнате, перегороженной двумя невысокими параллельными загородками. За одной толпились посетители, а за другую приводили заключенных. Посередине сидел на стуле смотритель и ходил взад и вперед сторож, следивший, чтоб не было преступных передач. Меня тоже пересаживали внутрь, и я свободно бегала от одной загородки к другой.
Вскоре тетя находила, что я проголодалась, и Эвелина Осиповна Короленко передавала мне кучу пирожков, а тетя спрашивала смотрителя, неужели девочка не может угостить своего дядю и других дядей? Разрешение обычно давалось, и пирожки быстро перекочевывали из-за одной перегородки за другую.
Бывали иногда и более «преступные» передачи. Заключенным запрещалась иметь карандаши и перья, а Короленко никак не мог помириться с их отсутствием.
И вот на меня было возложено поручение доставить ему эту контрабанду. Обычно, когда я перебегала ко второй загородке, Короленко поднимал меня и сажал перед собой на загородку. У него и тогда уже была густая борода, и я должна была незаметно засунуть карандаш в его бороду. Но, видимо, моя контрабандная тренировка оказалась недостаточной, и я так усердно сунула карандаш, что он проскочил через бороду и предательски стукнулся о каменный пол. По счастью смотритель в это время отвернулся в другую сторону. Короленко быстро спустил меня на пол, я подняла карандаш и, очень смущенная, на этот раз более осторожно всунула его в бороду.
Короленко скоро выслали в Пермь, а после 1 марта 1881 года, за отказ от присяги Александру III сослали в Восточную Сибирь, за Лену в слободу Амгу. Дядю отправили в сибирскую пересыльную тюрьму в Тюмени и оттуда назначили в маленький городок на Иртыше, Тару.
Всю свою предыдущую жизнь дядя с тетей прожили безвыездно, — если не считать поездок на дачи, — в Петербурге и очутиться внезапно в крошечном городке, где на поросших травой улицах пасутся коровы, свиньи и овцы, было для них большим переворотом.