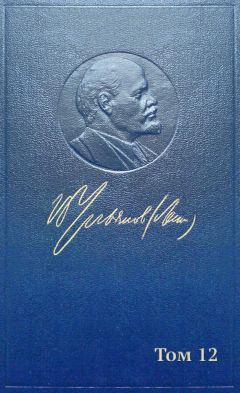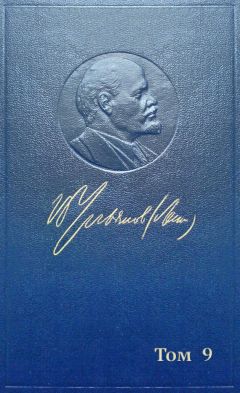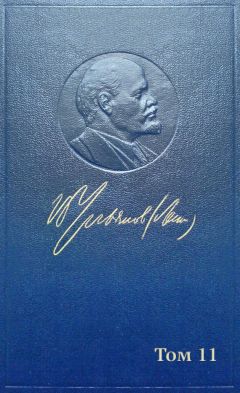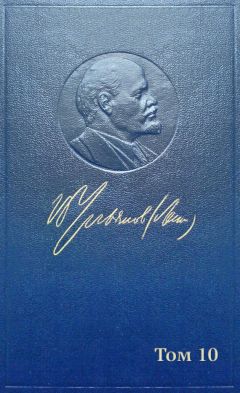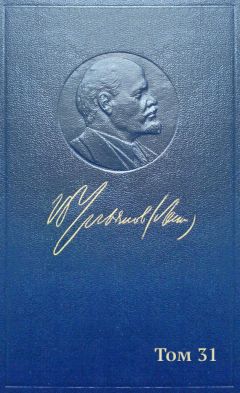Астра - Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Бакунина
Но было поздно. «Колокол» раззвонил об этом на весь мир. А все знали, что каждый номер этого мятежного журнала внимательнейше читает сам Император Всея Руси.
Иркутск торжествовал.
Тогда, зная о дружбе Бакунина с Герценом, и полагая, что официального опровержения Герцен не примет, Муравьев попросил племянника написать подобное опровержение с его слов, но будто бы от себя, и послать в Лондон.
И эта статья также появилась с «Колоколе». Отказать Бакунину Герцен не мог.
Генерал-Губернатор успокоился.
— Я тебя вытащу в Россию, вот увидишь, Мишель. Всю жизнь здесь ты жить не будешь. К весне вернешься в свое Прямухино, — пообещал он.
— «Ну, как не порадеть родному человечку?»-рассмеялся Мишель.
И генерал-губернатор Муравьев-Амурский, увенчанный славой, отправился за повышением в Санкт-Петербург, а Бакунин остался один на один с разъяренным городом.
Обещания своего Муравьеву сдержать не удалось. Из списка, поданного им Царю Александру II, удалось помочь Петрашевскому, Спешневу, Завалишину, но не Бакунину.
— При жизни моей Бакунина из Сибири не переведут!
Жизнь становилась все хуже. Способность наживать врагов с годами у Бакунина не убавилась. Еще Тургенев, поживший с ним долгое время, удивлялся, что «Мишель любит изображать из себя сточную канаву». Разве не били его за сплетни, неприличные выдумки, бестактные поступки? Казалось бы, хватит.
Но куда там!
Генерал Болеслав Казимирович Кукель был земляком Квятковских. Встретившись в Иркутске, они стали бывать друг у друга семьями, тем более, что стараниями Муравьева Ксаверий Васильевич занимал теперь весьма солидное положение.
— А помнишь…
— А помнишь…
Присутствовал на встречах и Бакунин, член семьи Ксаверия Васильевича, иной раз заглядывал к генералу и один, поболтать в уютном кабинете. Однако, со временем домашние Кукеля стали прятаться от него, перестали замечать, здороваться с ним и вообще выходить к столу, если в доме присутствовал Бакунин. Генералу это, в конце концов, надоело, он устроил очную ставку и при всех уличил Мишеля в постыдных немыслимых сплетнях о своем семействе.
В довершении бед, после отъезда Муравьева, золотопромышленник, в канцелярии которого Мишель, не работая, получал деньги, взялся требовать эти суммы обратно. Две с половиной тысячи!
— Герцен, помоги!
— Катков, помоги!
— Братья, выручайте!
Братья выручили, заплатили, но не более того. Жить на «пособие арестанта» с женою было невозможно, неприлично.
Весь город, обе партии, ополчились на Бакунина.
Мрачные минуты, быстрые переходы от отчаяния к надежде, к лучезарности по-прежнему сотрясали его дух.
— Не вешай носик, Антося, мы с тобой еще поедем в Италию! Я покажу тебе Рим, Париж, мы будем бродить с тобой по горным тропам Швейцарии. Ах, Антося! Потерпи немного. Я не рожден для спокойствия, я отдыхал поневоле столько лет, мне пора опять за дело.
На его счастье, Восточная Сибирь уже получила нового генерала-губернатора — Корсакова. Этот Корсаков тоже оказался его родственником, на его родной сестре был женат брат Бакунина Павел. Он привез известие о Манифесте от 19 февраля 1861 года, которым отменялось крепостное право.
Общественная жизнь забурлила.
В то же самое время автор статьи «Под суд» врач Николай Андреевич Белоголовый поехал в Москву для сдачи докторского экзамена. Сдав его, он отправился в Европу, чтобы повидаться с Герценом и рассказать ему всю правду. Бродя до изнеможения в дремучем для него лесу шумных улиц Лондона, он деликатно дожидался вечернего обеденного времени, когда, по его представлениям, Герцен закончит дневные труды и будет готов выслушать его, ничем не отвлекаясь. Особняк он нашел сразу, и при вечерних огнях позвонил.
— Хозяина нет дома, — ответила прислуга.
Белоголовый стряхнул со шляпы капли дождя.
— Могу ли я обождать его?
— Александра Ивановича нет в Лондоне, он в Париже.
Взяв парижский адрес, Николай Андреевич устремился к пароходу через Ламанш. Утром он позвонил в дверь с красивым бронзовым номером.
Открыл сам Герцен. Вопросительно посмотрел удивительно живыми глубокими глазами, освещающими огнем красивое лицо с высоким, прекрасным лбом. Белоголовый представился.
— Очень рад, входите, прошу вас. К сожалению, у меня мало времени, уже заказаны билеты на пароход в Англию.
— Я только что оттуда, спешил застать вас в Париже, чтобы не разминуться еще раз.
— Садитесь, пожалуйста. Чем могу быть полезен?
Белоголовый рассказал об Иркутской истории, о туземной и «навозной» партиях и о Бакунине.
— Я прошу у вас разрешение на помещение в «Колоколе» ответа на возражение Бакунина. Он возбудил против себя всю молодежь тем, что с его репутацией примкнул к губернаторской партии. Конечно, узкая провинциальная борьба не могла заинтересовать, — Николай Андреевич осторожно кашлянул, — заинтересовать коновода общечеловеческой революции, с его орлиного полета она казалась ему сплетнями и дрязгами. Или… он рассчитывал на губернаторскую благодарность в дальнейшем.
Он умолк. Герцен поднялся и, засунув руки в карманы широких брюк, прошелся по комнате, морща прекрасный лоб.
— Я верю совершенно, что правда на вашей стороне, а не на стороне ваших противников. Даже помещенное мною против вашей статьи возражение очень неубедительно, на мой взгляд, и далеко не разбивает всех ваших доводов. И самый тон его мне не нравится, но я не мог отказать Бакунину в его опубликовании.
Герцен замолчал и глубоко вздохнул. На лице его вдруг отразились множество оттенков грусти, тайной печали, муки, видимые только врачу, глубокие страдания, которые он перенес и не изжил до сего дня. Гость подумал, что напрасно докучает этому человеку мелкими неприятностями в далеком Иркутске.
— Мало того, что с Бакуниным меня связывает старинная дружба, — продолжал Герцен, — я никогда не могу и даже не должен забывать, что этот человек всю свою жизнь борется за человека. Даже друг мой друг Коссидьер, префект полиции в изгнании, помнящий Бакунина со времен Парижского восстания, говорит мне при встречах, ударяя огромным кулаком своим в молодецкую грудь с силой, с какою вбивают сваи в землю: «Здесь ношу Бакунина, здесь!». И потому не сердитесь на меня. Я вам верю, хотя рассказ ваш заставляет тускнеть образ героя Бакунина. Но вы поймите сами, что печатать сейчас какие-нибудь разоблачения против него, когда он в ссылке и не может ничего сказать в защиту своих поступков, было бы с моей стороны более чем непростительно. Правда мне — мать, но и Бакунин мне — Бакунин.