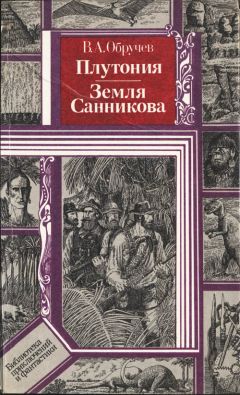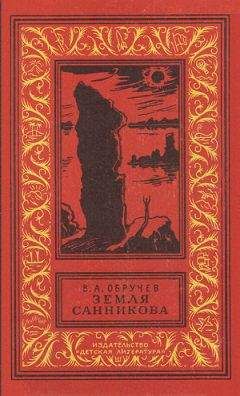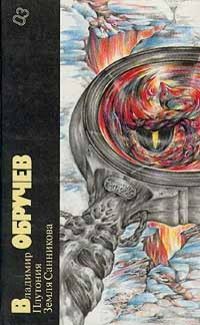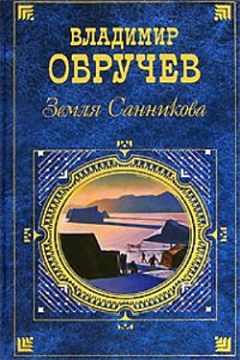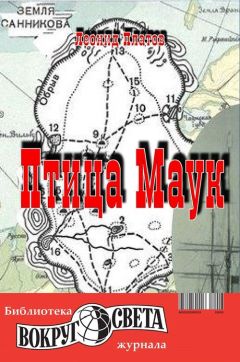Зинаида Гиппиус - Дневники
Меня же Горький и не ранит (я никогда его не любила) и не удивляет (я всегда видела его довольно ясно). Это человек прежде всего не только не культурный, но неспособный к культуре внутренне. А кроме того — у него совершенно бабья душа. Он может быть и добр — и зол. Он все может и ни за что не отвечает. Он какой-то бессознательный. Сейчас он приносит много вреда, играет роль крайне отрицательную, — но все это, в конце концов, женская пассивность, — «путь Магдалинин». Но Магдалина, которая никогда не раскается, ибо никогда не поймет своих грехов.
Не завидую я его котлетам. Наша затхлая каша и водянистый суп, на которых мы сидим месяцами (равно как и И. И.) — право, пища более здоровая!
Старика Г., знакомого 3. (я о нем писала), не выпустили, но отправили в Москву, на работы, в лагерь. Обвинений никаких. На работу нужно ходить за 35 верст.
Что-то все делается, делается, мы чуем, а что — не знаем.
Границы плотно заперты. В «Правде» и в «Известиях» — абсолютная чепуха. А это наши две единственные газеты, два полулистика грязной бумаги, — официозы. (В «коммунистическом государстве» пресса допускается, ведь, только казенная. Книгоиздательство тоже только одно, государственное, — казенное. Впрочем, оно никаких книг и не издает, издает пока лишь брошюры коммунистические. Книги соответственные еще не написаны, все старые — «контрреволюционны»; можно подождать, кстати и бумаги мало. Ленинки печатать — и то не хватает).
Что пишется в официозах — понять нельзя. Мы и не понимаем.
И никто. Думаю, сами большевики мало понимают, мало знают. Живут со дня на день. Зеленая армия ширится.
Дизентерия, дизентерия... И холера тоже. В субботу пять лет войне. Наша война кончиться не может, поэтому я уже и мира не понимаю! .
Надо продавать все до нитки. Но не умею, плохо идет продажа.
Дмитрий (Д. С. Мережковский) сидит до истощения, целыми днями, корректируя глупые, малограмотные переводы глупых романов для «Всемирной Литературы». Это такое учреждение, созданное покровительством Горького и одного из его паразитов — Тихонова, для подкармливания будто бы интеллигентов. Переводы эти не печатаются — да и незачем их печатать.
Платят 300 ленинок с громадного листа (ремингтон на счет переводчика), а за корректуру — 100 ленинок.
Дмитрий сидит над этими корректурами днем, а я по ночам. Над каким-то французским романом, переведенным голодной барышней, 14 ночей просидела.
Интересно, на что в Совдепии пригодились писатели. Да и то в сущности, не пригодились. Это так, благотворительность копеечка, поданная Горьким Мережковскому.
На копеечку эту (за 14 ночей я получила около тысячи ленинок, полдня жизни) не раскутишься. Выгоднее продать старые штаны.
Ощущение лжи вокруг — ощущение чисто-физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый.
Сегодня опять всю ночь горело электричество — обыски. Верно для принудительных работ.
Яркий день. Годовщина (пять лет!) войны. С тех пор почти не живу. О, как я ненавидела ее всегда, этот европейский позор, эту бессмысленную петлю, которую человечество накинуло на себя!
Я уже не говорю о России. Я не говорю и о побежденных. Но с первого мгновения я знала, что эта война грозит неисчислимыми бедствиями всей Европе, и победителям и побежденным. Помню, как я упрямо, до тупости, восставала на войну, шла против если не всех, — то многих, иногда против самых близких людей (не против Д. С. (Мережковский.), он был со мной). Общественно — мы звука не могли издать не военного, благодаря царской цензуре. На мой доклад в Религиозно-Философском О-ве, самый осторожный, нападали в течение двух заседаний. Я до сих пор утверждаю, что здравый смысл был на моей стороне. А после мне приходилось выслушивать такие вопросы: «вот, вы всегда были против войны, значит, вы за большевиков?» За большевиков! Как будто мы их не знали, как будто мы не знали до всякой революции, что большевики — это перманентная война, безысходная война?
Большевистская власть в России — порождение, детище войны. И пока она будет — будет война. Гражданская? Как бы не так! Просто себе война, только двойная еще, и внешняя, и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме террора, т.е. убийства вооруженными — безоружных и беззащитных. Но довольно об этом, довольно! Я слышу выстрелы. Оставляю перо, иду на открытый балкон.
Посередине улицы медленно собираются люди. Дети, женщины... даже знаменитые «инвалиды», что напротив, слезли с подоконников, — и музыку забыли. Глядят вверх. Совершенно безмолвствуют. Как завороженные — и взрослые, и дети. В чистейшем голубом воздухе, между домами, — круглые, точно белые клубочки, плавают дымки. Это «наши» (большевистские) части стреляют в небо по будто бы налетевшим «вражеским» аэропланам.
На белые ватные комочки «наших» орудий никто не смотрит. Глядят в другую сторону и выше, ища «врагов». Мальчишка жадно и робко указует куда-то перстом, все оборачиваются туда. Но, кажется, ничего не видят. По крайней мере я, несмотря на бинокль, ничего не вижу.
Кто — «они»? Белая армия? Союзники — англичане или французы? Зачем это? Прилетают любоваться, как мы вымираем? Да ведь с этой высоты все равно не видно.
Балкон меня не удовлетворяет. Втихомолку, накинув платок, бегу с Катей, горничной, по черному ходу вниз и подхожу к жидкой кучке посреди улицы.
Совсем ничего не вижу в небе (бинокль дома остался), а люди гробово молчат. Я жду. Вот, слышу, желтая баба щеп-чет соседке:
— И чего они — летают-летают... Союзники тоже... Хоть бы бумажку сбросили, когда придут, или что...
Тихо говорила баба, но ближний «инвалид» слышал. Он, впрочем, невинен.
— Чего бумажку, булку бы сбросили, вот это дело! Баба вдруг разъярилась:
— Булки захотел, толстомордый! Хоть бы бомбу шваркнули, и за то бы спасибо! Разорвало бы окаянных, да и нам уж один конец, легче бы!
Сказав это, баба крупными шагами, бодрясь, пошла прочь. Но я знаю, струсила. Хоть не видать ничего «такого» около, а все же... С улицы легче всего попасть на Гороховую, а там в списках потеряешься, и каюк. Это и бабам хорошо известно.
Пальба затихла, кучка стала расходиться. Вернулась и я домой.
Да зачем эти праздные налеты?
Вчера то же было, говорят, в Кронштадте. То же самое.
Зачем это?
Дни — как день один, громадный, только мигающий — ночью. Текучее неподвижное время. Лупорожий А-в с нашего двора, праздный ражий детина из шоферов (не совсем праздный, широко спекулирует, кажется) — купил наше пианино за 7 т. ленинок, самовар новый за тысячу и за 7 т. мой парижский мех — жене.