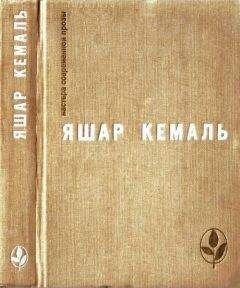Август Коцебу - Трагедия русского Гамлета
Когда престарелый граф Панин,[144] руководитель его юности, лежал на смертном одре, великий князь, имевший к нему сыновнее почтение, не покидал его постели, закрыл ему глаза и горько плакал. В числе окружавших графа находился г-н фон Алопеус-старший,[145] который впоследствии был русским посланником при английском и прусском дворах и от которого я слышал передаваемый мною рассказ. Граф Панин был его благодетелем, и потому глубокая горесть овладела им при этой смерти; он стоял у окна и плакал. Великий князь, заметав это, быстро подошел к нему, пожал ему руки и сказал: «Сегодняшнего дня я вам не забуду». Затем Алопеус был назначен директором канцелярии графа Остермана и долго спустя посланником в Эйтине.[146] Когда он оставлял Петербург, он пожелал иметь прощальную аудиенцию и у великого князя. Павел приказал сказать ему, что он может приехать к нему, но втайне (heimlich), чрез заднюю дверь. Он принял его в своем кабинете и снова уверял в своем благоволении, причем не только объявил ему, что в настоящее время ничего не может сделать для него, но даже предостерегал его не оглашать дружественных отношений, в которых он к нему находился, потому что это могло ему лишь повредить. Сын, который постоянно оказывал своей матери столько покорности, что неоднократно с негодованием отвергал предложение вступить на ее престол, несмотря на то что все было к тому подготовлено, должен был тем не менее питать оскорбительное для себя убеждение, что простого благоволения с его стороны было достаточно, чтобы повредить! Какая горечь должна была отравить его сердце!
Отсюда родилась в нем справедливая ненависть ко всему окружавшему его мать; отсюда образовалась черта характера, которая в его царствование причинила, может быть, наиболее несчастий: постоянное опасение, что не оказывают ему должного почтения. До самого зрелого возраста он был приучен к тому, что на него не обращали никакого внимания и что даже осмеивали всякий знак оказанного ему почтения; он не мог отрешиться от мысли, что и теперь достоинство его недостаточно уважаемо; всякое невольное или даже мнимое оскорбление его достоинства снова напоминало ему его прежнее положение; с этим воспоминанием возвращались и прежние ненавистные ему ощущения, но уже с сознанием, что отныне в его власти не терпеть прежнего обращения, и таким образом являлись тысячи поспешных, необдуманных поступков, которые казались ему лишь восстановлением его нарушенных прав. Екатерина II была велика и добра; но монарх ничего не сделал для потомства, если отравил сердце своего преемника. Многие, скорбевшие о Павле, не знали, что, в сущности, они обвиняли превозносимую ими Екатерину.
Великий князь являлся при дворе только на куртагах, на малые собрания в Эрмитаже его не приглашали: мать удаляла сына, когда хотела предаваться непринужденной веселости. Он не имел голоса в воспитаннии своих детей, ни даже в предположенной помолвке своей дочери с королем шведским. Придворные фавориты оскорбляли его в его родительских правах, так как им приписывал он, и часто не без основания, то, что делала его мать. Можно ли порицать его за это душевное настроение? Оно-то с самого начала внушило ему те странные меры, которые в его понятии должны были поддержать остававшееся за ним ничтожное значение. Он жил обыкновенно в Гатчине, своем увеселительном замке. Там, по крайней мере, он хотел быть господином и был таковым. Того, кто ему не нравился, он удалял от своего маленького двора, причем случалось, что он приказывал посадить его ночью в кибитку, перевезти чрез близкую границу и высадить на большой дороге, откуда изгнанник уже должен был сам добраться до первого встречного дома.
К этому несчастному настроению присоединилась тогда еще мрачная подозрительность, которую ему, как и всякому государю, внушили к людям ужасы французской революции. Он видел унижение и казнь достойного любви монарха, который всегда желал добра своему народу и часто оказывал ему великие благодеяния. Он слышал, как те самые люди, которые расточали фимиам перед Людовиком XVI, как перед божеством, когда он искоренил рабство, теперь произносили над ним кровавый приговор. Это научило его если не ненавидеть людей, то их мало ценить, и, убежденный в том, что Людовик еще был бы жив и царствовал, если бы имел более твердости, Павел не сумел отличить эту твердость от жестокости. Пример его прадеда Петра Великого утвердил его в этом правиле.[147] Петр знал русских. Кроткое правление не идет им впрок. Даже при Екатерине князь Потемкин часто помахивал железным прутом; там же, где брала верх кротость императрицы, все большей частью было распущено и в беспорядке.
Схвативши твердой рукой бразды правления, Павел исходил из правильной точки зрения; но найти должную меру трудно везде, всего труднее на престоле. Его благородное сердце всегда боролось с проникнувшей в его ум недоверчивостью. Это было причиной тех противоречащих действий, которые однажды один шутник изобразил на рисунке, представлявшем императора с бумагой в каждой руке: на одной бумаге написано: Ordre, на другой: Contre-ordre, на голове государя: Desordre.[148]
К сожалению, это злосчастное, тревожное чувство, самими народами возбужденное в правителях нашего века, не умолкало в Павле и по отношению к его детям. Великий князь Александр Павлович, юноша благороднейший и достойнейший любви, не избежал подозрений, которые глубоко оскорбляли его прямодушие. Незадолго до кончины императора он однажды сидел за столом у своей сестры, великой княжны Марии Павловны, и, будучи погружен в задумчивость, машинально играл ножом. «Qu’avez-vous, mon frère? — спросила она его. — Vous etes aujourd’hui si reveur». Он ничего не отвечал, нежно пожал под столом ее руку, и глаза его наполнились слезами.
Ничтожное происшествие навлекло на него взрыв отцовского гнева. Несколько гвардейских офицеров не оказали должного внимания при салютовании и были за то отправлены в крепость на несколько дней или часов. Вскоре выпущенные на свободу, они громко насмехались над этим наказанием. Это дошло до государя. Нельзя было, по вышеобъясненным причинам, нанести ему более чувствительного оскорбления, как дать ему повод полагать, что издеваешься над его достоинством; вследствие сего он приказал этих офицеров снова посадить в крепость и угрожал им наказанием кнутом. Оба великих князя желали спасти невинных и снизошли до того, что просили заступничества графа Кутайсова, любимца государя. «Laissez-moi faire, — отвечал надменный фаворит, — je lui laverai la tete». Возмущенный столь неприличными выражениями, великий князь Константин Павлович возразил ему: «Monsieur lе comte, n’oubliez pas се que vous devez à mon рèге». Кутайсов действительно говорил императору в пользу этих офицеров, но, вероятно, не довольно горячо или не в надлежащую минуту, потому что потом советовал великим князьям более в это дело не вмешиваться, заметив при этом, что император прав, «саг enfin, — прибавил он, — n’est-il pas le maitre de faire chez soi tout ce qu’ul veut».