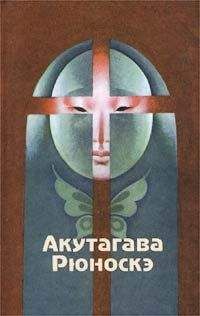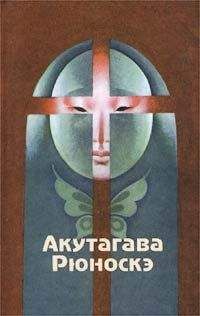Леон Островер - Тадеуш Костюшко
«Завещание. Глубоко сознавая, что крепостничество находится в противоречии с законами природы и благополучием народов, сим свидетельствую, что уничтожаю его совсем и на вечные времена в моем имении Сехновицы, расположенном в Брестско-Литовском воеводстве, как от имени своего, так и будущих владельцев. Признаю, таким образом, всех жителей деревни, принадлежащей к имению, свободными гражданами и неограниченными хозяевами угодьев. Освобождаю их от всех без исключения поборов, панщизны и личных повинностей, которыми они были до сего дня обязаны владельцу имения. Призываю их лишь к тому, чтобы для пользы собственной и Края старались открывать школы и распространять просвещение…»
На первый взгляд кажется странным: как мог Костюшко завещать кому-то ценность, которая ему не принадлежит? Ведь, уезжая из Петербурга, он передал имение Сехновицы в полную собственность сестре с правом «отказать его одному из сыновей или всем». Без уничтожения этой дарственной записи «Завещание» не имело юридической силы. И Костюшко не мог этого не знать!
Так зачем он написал свое «Завещание»? Для кого оно было предназначено?
Для потомков! И в первую очередь для того будущего «Костюшки», которого польский народ поставит во главе нового восстания. Этому будущему вождю Тадеуш Костюшко хотел сказать, что новый «Поланецкий универсал» должен быть вдохновлен идеей, заложенной в основу «Завещания», и что только такой универсал принесет победу восставшему народу.
Утро первого октября тысяча восемьсот семнадцатого года было теплое, снег на горах искрился, но Костюшко до срока вернулся домой с прогулки. Цельтнер, встретивший его в садике, забеспокоился:
— Почему так рано?
— Знобит. Посижу у камина.
В камине ярко горел огонь, а Костюшко, сидя в кресле у самого пламени, никак не мог согреться. Рядом, на скамеечке, устроилась Эмилия, дочурка Цельтнеров. Высоким звонким голосом рассказывала она о проделках кота Шпигеля, но Костюшке казалось, что девочка говорит шепотом.
— Громче, дитя. Я не слышу.
Эмилия пересела на подлокотник кресла, прижалась к «дедушке» и, напрягая голос, продолжала свой рассказ.
До сознания Костюшки доходили не все слова, — часть из них проваливалась, и терялся смысл рассказа.
— Я лягу, Эмилия, а ты попроси маму сварить мне кофе.
Горячий напиток помог: Костюшко почувствовал, как по телу разливается благодатное тепло.
Однако его хватило ненадолго: опять озноб. Костюшке чудилось, что его погружают в воду и чем глубже его погружают, тем холоднее становится вода.
Вечером явился доктор Шиллер. Диагноз он поставил грозный, хотя и непонятный: нервная горячка.
Супруги Цельтнеры не отходили от больного: то отогревали его грелками, то растирали уксусом пышущее жаром тело.
На восьмой день наступило улучшение: ни озноба, ни жара, однако доктор Шиллер предостерег Цельтнеров:
— Не спускайте с него глаз. Генерал очень плох.
Десятого октября утром, когда Цельтнер раскрыл дверь в комнату больного, он остановился на пороге и растерянно спросил:
— Куда вы собрались?
Костюшко, одетый в праздничный костюм, оправлял перед зеркалом черный шарф. Он повернул голову к Цельтнеру:
— Дорогой друг, вы забыли, какой сегодня день.
— Не забыл. Но вы ведь больны!
— Молитва больного скорее достигнет ушей господа нашего.
Цельтнер понял, что его постоялец не откажется от своего намерения.
— Тогда подождите, переоденусь и пойду с вами.
Ежегодно в этот день Костюшко заказывал заупокойную мессу и под звуки моцартовского «Реквиема» оплакивал павших под Мацеёвичами.
Цельтнер явился в цилиндре, перехваченном траурным крепом, и в черных перчатках.
Они отправились в костел. Костюшко шел размеренной походкой военного: прямо, с приподнятой головой. Больная нога легко отрывалась от земли. Лицо — ясное, одухотворенное.
— Рад видеть вас таким бодрым, — сказал Цельтнер.
— Но вас удивляет, почему без траура.
— Честно говоря, удивляет.
— Мой друг, силы мои на исходе. Возможно, иду к богу с последней молитвой, и эту свою последнюю молитву хочу вознести не за прошлое, а за будущее, не за мертвых, а за живых. Хочу упросить бога внушить живым не терять надежды.
Предчувствие не обмануло Костюшко.
После костела Костюшко преобразился: он как бы ушел в себя. За столом не принимал участия в разговоре, в саду сидел один, думая о чем-то, подолгу оставался в своей комнате, но не работал, не писал и не читал, а просиживал у окна и смотрел на восток, где ледяные вершины гор, словно пики, впивались в голубую сочность неба. Даже его любимице Эмилии не удавалось пробиться сквозь его молчание.
Четырнадцатого Костюшко слег. Доктор Шиллер никакого диагноза не поставил, только, уходя, сказал Цельтнеру:
— Все в руках божьих.
Пятнадцатого, рано утром, когда в доме еще спали, раздался резкий звонок. Цельтнер, накинув на плечи пальто, бросился к входной двери. Перед ним — доктор Шиллер.
— Что случилось? — спросил Цельтнер всполошенно.
— Генерал… Как генерал?
— Слава богу… уснул.
Доктор извинился, ушел.
Костюшко проснулся около одиннадцати. После четырехдневного молчания он вдруг стал многоречив. Цельтнеру он рассказывал о порядках в Любашевской бурсе, а когда мадам Цельтнер сменила мужа у постели больного, он поведал ей историю одной трагической любви, и хотя Костюшко имен не называл, но его слушательница знала, что он говорит о себе и Людвике.
Наступил вечер. У кровати больного собрались все Цельтнеры. Костюшко, как бы продолжая прерванный рассказ, обратился к мадам Цельтнер:
— А вы как бы поступили?
И, не дожидаясь ее ответа, продолжал:
— Люди не вольны в своих поступках.
Костюшко протянул руку; ее перехватил Цельтнер.
— Люди не вольны в своих поступках, — повторил Костюшко. — Но иногда бывает… — Он попытался приподняться, но тут же упал на подушки. Дыхание становилось все чаще и прерывистее. Все сильнее сжимал руку Цельтнера, а взгляд его — недоуменный — перебегал с лица на лицо.
Вдруг он выгнулся и замер.
Голова глубже ушла в подушку.
Губы улыбались, а в глазах застыла тревога.
Голицыно, 1960.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАДЕУША КОСТЮШКИ
1746, февраль — В Мерцовщизне, на Литве, в семье мечника Людвика Костюшки родился сын Андрей Тадеуш Бонавентура.
1755—Тадеуш поступил в Любашевскую бурсу отцов-пиаров.
1765 — Тадеуш поступил в Варшавскую Рыцарскую школу (кадетский корпус).