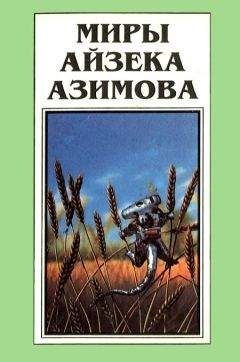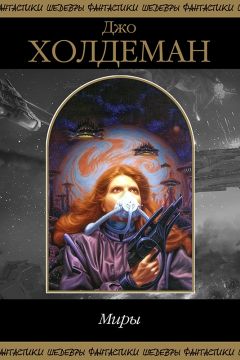Дмитрий Щеглов - Любовь и маска
Говорят, что старость напоминает каменный мешок, в который заключен часто еще молодой человек со всеми своими страстями (страстишками) и желаниями.
Когда у тебя в прошлом роли молодых победительных героинь и абсолютная слава, то шестидесятилетняя Нора кажется прямым продолжением некогда блестящего ряда.
Каменный мешок возраста слишком по-разному преодолевается на сцене и в жизни.
Был один из вечеров, когда Орлова пригласила Ирину Сергеевну Вульф к себе домой, на Бронную, куда она к тому времени переехала. Хотела что-то уточнить или попробовать в роли. Удачной, видимо, оказалась, эта вечерняя репетиция, после которой Орлова предложила бабушке выпить по рюмке коньяку, потом еще по одной. Ощущение легкости и приязни поддерживалось теплым осенним вечером. Когда они встали из-за стола, было совсем поздно, и Орлова предложила проводить Ирину Сергеевну до площади Маяковского — полпути от ее дома до 3-й Тверской-Ямской, где жила Вульф. Не торопясь, они прошли площадь Маяковского, двинулись дальше по улице Горького и оказались возле ресторана «Якорь», невдалеке от дома Ирины Сергеевны, которая не захотела отпустить Любочку одну, и они отправились обратно до Бронной. Потом все повторилось — еще и еще раз, то ли потому, что было не ясно, кто из двоих все же возвращался к себе в одиночестве, кажется, они и до сих пор ходят по ночной Москве своего прошлого, не умея расстаться, забыв, как это делается в земной жизни.
Ирина Сергеевна и предложила дирекции пригласить на роль Норы молодую актрису, запомнившуюся всем по фильму «Дама с собачкой».
Никаких; тайн от Орловой тут не было.
М. Никонову удалось убедить Завадского в том, что Ия Саввина способна стать открытием в этой роли. Это был уникальный директор — Михаил Семенович Никонов, может быть лучший в то время, начала шестидесятых. При нем вернулась в театр Раневская, пришли Терехова, Бероев, Талызина. Это он отстаивал «В дороге» Розова — спектакль, в котором Анисимова-Вульф открыла Москве и Парижу (на гастролях) ни на что не похожее дарование Бортникова.
Дебют Саввиной был волнителен вдвойне: первое появление на профессиональной сцене, причем в роли, которую играла сама Орлова.
Человек, мало-мальски знакомый с внутритеатральными нравами, может представить, какая сложная и часто взрывоопасная смесь вскипает на внутреннем огоньке подобных замещений. Напряженное и хищное выжидание, затаенный ужас неминуемого провала, или почти открыто ликующее его предвидение, не сбывшееся в последний момент. Первая исполнительница не пришла, но ее мастеровитый призрак присутствовал за кулисами.
В тот вечер во Внуково Орлова часто поглядывала на часы. В пятнадцать минут одиннадцатого, смешав карты в очередной раз не сошедшегося пасьянса, она прошла в гостиную, где сидели Александров и Нонна Голикова. Абсолютно ровным голосом сказала: «Григорий Васильевич, пожалуйста позвоните, — передали Саввиной цветы и записку?»
Поручение было незамедлительно исполнено.
Саввину тогда поздравляли все: Завадский, Анисимова-Вульф, Никонов, артисты и зрители. Играла она, по воспоминаниям многих, блестяще и очень по-своему.
В ее гримерной в тот вечер стоял большой букет роз с короткой поздравительной запиской: «…Норе от Норы».
Это был не только жест эпизодического великодушия.
Орлова знала о проблемах Саввиной с голосом, болезненно хрупким, срывающимся, уже пропадавшем однажды. Как-то, встретив Саввину в театре, она в довольно резких выражениях высказала все, что думает о ее невнимании к своему инструменту. А потом чуть ли не за руку отвела к какому-то редкостному, почти легендарному специалисту по голосовым связкам.
Знала она и что такое положение дебютантки с сильным, самостоятельным характером в театре, где есть Хозяйка. Хозяйка, способная без особых затрат расправиться с кем угодно, невзирая на талант или недавний успех.
Сама она всегда существовала в театре крайне обособленно, сохраняя постоянную дистанцию, словно работала по контракту западного образца.
После спектаклей ее встречал неизменно корректный, никуда не торопящийся Григорий Васильевич: «Вы готовы, Любовь Петровна? Еще нет? Я подожду». И ждал столько, сколько нужно, попыхивая сигарой и ласково беседуя с артистами.
Завадский любил собирать труппу для бесед. Звучало это очень величественно: «Я хочу собрать труппу, чтобы познакомить актеров с последними стихами Расула Гамзатова». Темой беседы могло стать что угодно: последняя прочитанная книга, этический ликбез или пророческий сон Юрия Александровича.
Раневская, посетив собрания пару раз, нарекла их «мессой в борделе» и больше не появлялась.
Любовь Петровна, игнорируя первые ряды для народных и даже вторые и третьи для заслуженных артистов, неизменно устраивалась возле выхода, ближе к седьмому ряду, там, где группировалась молодежь. Вскоре она тоже перестала появляться на этих утренних слушаниях.
Пройдут годы, и все то причудливо-капризное, наивное и непоследовательное, что часто связывалось с Завадским, будут вспоминать с нежностью и тоской — как чеховские сестры Москву. Над ним смеялись, его никто не боялся. А когда пришло время бухгалтеров от режиссуры вспомнили, что он был последним осколком серебряного века, Калафом и Альмавивой, — блестящим актером, выдумщиком, — много чего можно было вспомнить.
О его летучем, божественном равнодушии ходили легенды. Легенды превращались в мифы. Их было не меньше, чем знаменитых карандашей Завадского, порхающих по всем воспоминаниям об этом вечно штрихующем человеке — рисовальщике бесчисленных рож и узоров.
— Ну что, Фаина? — спрашивал он Раневскую после того, как с ней на гастролях случился сердечный приступ и он лично повез ее в больницу, дождался пока ей сделают уколы.
— Ну что-что! — тоскливо ответила Раневская, — грудная жаба.
Он страшно огорчился — ах, какой ужас, грудная жаба! Неужели грудная жаба… — и тут же, увлекшись вдохновительным пейзажем за окном машины, тихонько запел: «Грудна-а-я жа-а-ба, гру-у-удна-а-а-я жа-а-а-а-аба-а…»
— Ну, какая вы, право, Фаина Георгиевна, — сказала услышавшая эту историю Ия Саввина, — а кто другой из ныне живущих «гениев-режиссеров» лично повез бы вас в больницу?
— А я разве что-нибудь говорю, я ведь только в самом положительном смысле (из воспоминаний И. Саввиной).
Раневская называла его «Пушок» или развернуто: «вытянутый в длину лилипут», человек, «родившийся в енотовой шубе».
«Ну, что там еще придумала про меня Фаина?» — спрашивал он, стараясь казаться ироничным.