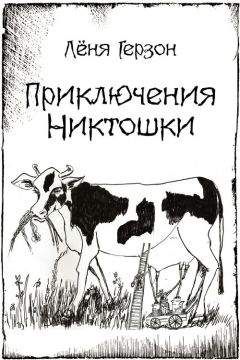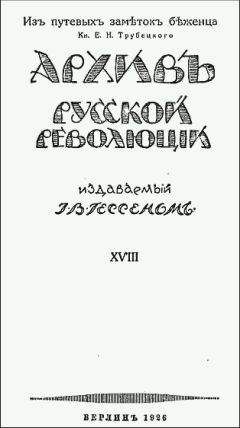Эрнст Саломон - Вне закона
Керн говорил: — И это наверняка так, что сама жизнь готовится к прорыву, проникает в законное пространство. Добропорядочные люди, которые чувствуют мощь воздействия прадревних энергий, полагают, что служат им, когда они намереваются их материализовать. Они зачарованы новыми образами, которые они испуганно должны осознать как вечные. Они чувствуют анонимное и хотят это рассчитать, хотят это обойти. Но нужно идти как раз насквозь. В принципе, добропорядочные люди защищают только порядок, а не нравственные принципы. Как бы то ни было, где те абсолютные ценности, которые должны быть защищены? Нечистая совесть стремится изгнать, преодолеть силу, которая ей грозит. Она создает себе пугало, которому она может опротиветь, и верит, что так обеспечена ее безопасность. И с другой стороны, те, кто заявляют о себе, что они, мол, из О.К., о чем ином они думают, если не о поиске перестраховки? Когда я встречаю кого-то, кто говорит, что он из О.К., тогда я знаю, что он либо дурак, либо аферист, либо чиновник уголовной полиции. Это полезно знать. Это полезно, когда противник попадает на удочку внешней оболочки вещей и не осознает потому их сущность. Полезно с помощью холодного скепсиса предотвращать то, что жизнь перепутывают с одной из ее форм. Внушение велико. Оно создает покрывало, за которым нам хорошо работать. Мы должны приветствовать тот документ, тот варварский документ, который теперь из-за благосклонного участия нашей умелой, но, что касается ее интеллектуальных способностей, к сожалению, отнюдь не особо блестящей полиции, стал поводом для возрастания психоза заговора до безмерного уровня. Впрочем, мужчина, который придумал этот интересный документ и подбросил его в руки полиции, находится со мной в очень близком родстве и свойстве. Злые языки утверждают, что у него есть слабость к практической философии.
Керн говорил об этом с комфортом, сидя на маленьком сейфе в моем пункте обмена валюты, обращаясь больше к Хайнцу, который стоял, прислонившись к низкой двери, чем ко мне, который у окошка пересчитывал пачку грязных банкнот. Так как с тех пор как я вернулся из Верхней Силезии, я сидел в маленьком деревянном киоске посреди зала ожидания вокзала и извлекал барыши для одной берлинской банковской фирмы из начинающейся инфляции. Кроме узкого стола, стула, телефона, папки валют и сейфа в помещении ничего не было, да в него больше ничего бы и не поместилось. Когда Керн закончил свою туманную речь, я попросил, чтобы он, если мне нужно было бы позвонить по поводу кого-нибудь клиента, незаметно нажал пальцем на рычаг телефона.
И вот уже подошел клиент и хотел обменять доллары. Я быстро пообещал ему, что узнаю самый новый курс, и снял трубку. Говоря в глухой аппарат, я потребовал валютный отдел и спросил о последнем курсе. — Наличные деньги или вексель? — спросил я, — восемьдесят два, спасибо, — сказал я, повесил трубку и выплатил осчастливленному клиенту деньги по значительно заниженному курсу.
— Но это же обман! — удивился растерянно Керн, и Хайнц ухмыльнулся. Это на самом деле был обман, заверил я его, и все, что я делал в этом чудном киоске, было обманом, обманом по инструкции, очень почетным обманом, обманом, который является душой этого бизнеса. И я рассказал ему о поучительных маленьких махинациях, о системе мелкого свинства, как, например, вносить в книги большие сделки как несколько маленьких, так как оборот с одной сделки свыше трех тысяч марок облагается налогом, тем не менее, с самих клиентов снимать этот самый налог, и потом фирма его себе прикарманивает; о сети обменных пунктов для официального поддержания курса на низком уровне при покупке и интенсивного завышения его при продаже, и о других подобных вещах.
— Нужно, — сказал я Керну, — уметь и это. Мы должны еще многому учиться, прежде чем мы будем готовы вступить в борьбу с опустошительными силами цивилизации. Ты, — сказал я неожиданно, — мне только что рассказал, что майнцы жалуются, что их свобода действий страдает от недостатка в деньгах, — и пододвинул ему пачку купюр. Он отшатнулся назад и резко произнес: — Если другие люди мерзавцы, мне кажется, это не должно быть поводом для тебя тоже становиться таким.
— Можно предположить, — сказал я и выплатил одному поляку с черными ногтями сумму, — что ты все еще болезненно податлив буржуазным сантиментам. Можно предположить, — и я принял в кассу от аристократически молчащего англичанина белую, как будто посыпанную пудрой, десятифунтовую банкноту, — что даже если бы здесь все было чисто, факт неспособности к действию майнцев из-за нехватки денег является для меня достаточным поводом, — и я немножко отпрянул назад перед облаком духов уже не очень молодой француженки, которая жадно считала купюры, — чтобы не обращать внимания ни на прибыль моей весьма почитаемой банковской фирмы, — и обманул одного недоверчивого датчанина, все же, минимум на десять процентов, — ни на чистоту нравственных принципов моих незащищенных девятнадцати лет, — и выплатил маленькой даме с ночной Кайзерштрассе за ее голландский гульден единственный приличный курс дня.
— Можно предположить, — сказал Хайнц, — что об определенных вещах можно говорить только на напыщенном немецком.
— Я не могу взять деньги, — продолжал упрямиться Керн.
— Если бы я добыл эти деньги не спекуляцией, а обманом, — сказал я оскорбленным тоном, — тогда будь уверен, я не делал бы намеков, которые могли бы побудить тебя к испуганным выводам.
— Замешательство чувств, — сказал Хайнц, — представляется мне самым успешным боевым средством О.К.
Скоро мой киоск стал институтом финансирования для акций в Рейнланде. Даже Хайнц должен был решиться работать, чтобы вносить свою долю в обеспечение столь необходимыми суммами нашей деятельности в оккупированной области. Нам удалось путем рискованных спекуляций создавать хоть и не неистощимые, но все же полезные для наших скромных требований фонды. Потому что после Верхней Силезии было много работы.
В Верхней Силезии, месте общего собрания активистов Германии само собой получилось так, что мужчины, которые во всех частях страны действовали как взрывной порошок, теперь узнавали друг о друге и таким образом с помощью своего сотрудничества могли придавать отдельным акциям больший размах и большее значение. В течение следующих месяцев возникла жесткая, невидимая, упругая сеть, отдельные петли которой сразу реагировали, если в каком-то месте давался сигнал. Это происходило без какого-либо соединения через какую-то организацию, без плана и приказа, только с помощью воздействия стихийной и естественной солидарности. Во всех союзах сидели эти мужчины, во всех лагерях, во всех профессиях. Они перебрасывали друг другу мячи, обменивались информацией, предостерегали друг друга, давали полезные советы и в упоенном опыте делали так, что скоро в сотне различных мест одновременно и независимо друг от друга появлялись одни и те же мысли и идеи, те же вызовы, те же целевые установки, что всюду появлялась одна и та же ситуация и свидетельствовала об одних и тех же действиях. Так для них возникало большое и единое направление воли. Вокруг них обвивалась лента, которая была тверже, чем могли бы быть клятвы в верности и организационные уставы, их сковывал одинаковый ритм, который пульсировал в их артериях. Оказалось, что ряд новых заповедей, признанных ими всеми с одинаковой стихийной уверенностью, заставлял их всех придерживаться одной и той же линии. Они держались как люди одной расы, они чувствовали в себе одни и те же боли и одни и те же токи. В них возникали одни и те же сомнения. Они были аподиктиками сомнения, готовыми сбросить с себя любой балласт на пути своего поиска, радостные от того, что они узнавали, что одно и то же стремление во всей их породе бросало их в одни и те же конфликты и заставляло находить одно и то же решение.