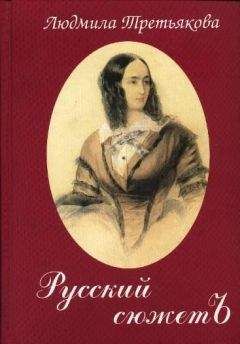Людмила Третьякова - Красавицы не умирают
Лицо Юлии исказил ужас. Глаза расширились. С полуоткрытых губ готов был сорваться вопль. Она побледнела.
— Что ты наделал, несчастный! Ты погубил нас!
— Да нет же, Юлия, все спокойно. Откуда ты взяла, что дрожит земля?
— Дрожит!! Все! Все! Нам конец!
Юлия вдруг согнулась, прикрывая голову кружевным зонтиком. Карл отбросил его, чтобы подхватить теряющую сознание спутницу.
В следующий миг увидел: она хохотала, запрокинув голову, — от души, до слез, такая довольная своей проделкой. И голубое небо высветлило ее темные глаза. И кружевной зонтик валялся в помпейской пыли. А Карл все держал Юлию в объятиях. Вдруг, притихнув, она сказала:
— Ну что, маэстро? Вы испугались?
— Я ничего не боюсь, синьора. Но вы, как видно, прекрасная актриса. Так погодите же!
Брюллов отпустил ее, нагнулся к колодцу, оставшемуся еще с тех времен и по-прежнему полному воды, подхватил пригоршню. Капли взметнулись вверх, блеснув на солнце. Они упали на разгоряченное лицо Юлии, открытую шею, платье.
— Спасибо, Бришка, за этот дождь. — И вдруг загрустила: — Полно дурачиться. Здесь люди так страдали... Расскажи мне, как все было?
Брюллов не обижался на это придуманное ею — Бришка. Карл Павлович — нелепо. Карл — холодно. То, что соединяло их теперь, допускало все, что ей вздумается.
— Ах, Юлия, здесь был маленький, но уютный город. Нечто вроде курорта для патрициев. Мраморные виллы, театры, даже водопровод. Обычная жизнь. В старых хрониках остался случай: сын важного господина развлекался тем, что подбрасывал грушу и ловил ее ртом. И вдруг она так глубоко вошла ему в горло, что мальчик задохнулся.
— Ужасно! Что за город, право, одни несчастья.
— Да нет же, Юлия. В Помпеях жили веселее нашего. Тут остались смешные рисунки. Ребята рисовали пьяницу-учителя с красным носом. А надписи! О, чего только нет! Любовные послания, объявления о спектаклях... Посмотри, вот колея. Словно только сейчас проехала повозка.
— Это тоже страшно. Была жизнь и остановилась. Пропала, исчезла...
Юлия была права. Город не выглядел местом страшной катастрофы, хоть большинство зданий были разрушены. Прямые улицы. Голубые блюдца колодцев со следами от веревок. Посуда, оставшаяся в тавернах. Выложенные веселой мозаикой у порогов жилищ надписи: «salve» — здравствуйте. Не хватало только людей, птиц, осликов, везущих свою поклажу.
...24 августа 79 года. Начавшись в полдень с чудовищного, оглушительного грохота, катастрофа нарастала с каждой минутой. Кратер Везувия разверзся. Из него ударил огромный столб огня, пепла и камней, вес которых достигал шести килограммов. Дома рушились на обезумевших людей. Те метались с подушками на головах, погибали, раздавленные камнями, удушенные густыми испарениями серы. Пепел в несколько метров толщиной покрывал саваном зрелище страшных страданий. Птицы падали камнем, а море выбрасывало мертвых рыб. Наступила кромешная тьма...
* * *
Над «Помпеей» Брюллов работал до изнеможения — порой его выносили из мастерской на руках. Но центр холста по-прежнему пуст, чего-то не хватает. Героя? Героини?
Самойлова явилась вовремя. Это — его женщина. Она не женщина Рафаэля «с тонкими, неземными, ангельскими чертами — она женщина страстная, сверкающая, южная, итальянка во всей красоте полудня, мощная, крепкая, пылающая всею роскошью страсти, всем могуществом красоты, — прекрасная, как женщина».
И когда такая женщина гибнет — а Юлия гибнет в «Помпее», — это должно восприниматься вдвойне трагично, ибо что останется в этом мире, если с нею будет сметена красота, любовь, материнство?
...Брюллов был похож на гончую, наконец-то взявшую верный след. К черту головки ясноглазых римлянок, от которых млеют в Петербурге! К черту миленькие пейзажи, которые вымаливают у него местные аристократки! Теперь пусть знает Академия художеств, снарядившая в Италию своего выпускника, что все это — только пробы. Теперь от его неуверенности, осилит ли он громадное полотно, не осталось следа.
В центре холста, который все время оставался пустым, появляется желанная фигура. Юлия Самойлова!
В мастерской Брюллова все больше и больше скапливалось картонов с набросками, возле постели валялись листы с пока что еле намеченными фигурами, еще не различимыми лицами. Его картина должна быть чем-то бОльшим, чем упрек бессмысленному произволу природы.
Он покажет любовь и благородство, не угасающие перед лицом смерти. Молодой человек будет спасать старика отца. Немощная мать — убеждать сына не обременять себя. Жених вынесет из-под града камней уже мертвую невесту, а отец семейства последним в жизни движением попытается укрыть своих близких. Но вот обуреваемый страхом всадник, у которого шансов спастись куда больше, чем у других, мчит во весь опор, не желая никому помочь. И жрец, которому привыкли поклоняться, трусливо покидает гибнущий город, надеясь остаться незамеченным.
Люди, вы разные... Брюллов будет рисовать вас такими, какие вы есть в жизни. Но в Помпее будет и идеал. Нечто такое, что встречается так редко и что встретилось ему.
Юлия! Она появится на полотне великой картины Брюллова трижды.
...Молодая мать старается прикрыть от камнепада крошку-сына. Это Самойлова первая. Тем, чем обделена была Юлия в жизни — материнством, Брюллов вознаградит ее сполна. Вторая Самойлова изображена помпеянкой с двумя дочерьми, в ужасе прижавшимися к ней.
Была и третья Самойлова...
* * *
«Между мной и Карлом все делалось не по правилам», — признавалась Самойлова. Не по правилам общества, в котором жили, — и за это им придется расплатиться. Но по правилам страсти — такой обильной, яростной, почти языческой, что смешно было скрываться. То, что графиня Самойлова — любовница художника Брюллова, знал и Рим, и Петербург. Юлия и Карл Брюллов появлялись вместе, не скрывая своих отношений.
Одно время ходили слухи, что они хотят пожениться. Однако у них хватило здравого смысла, чтобы не сделать этой глупости. Тем самым они спасли свои отношения, оставшись на двадцать лет в жизни и навсегда в истории Гением и его Музой.
Абсолютно свободные, не давая ни клятв, ни обещаний, не видясь годами и бросаясь из одного увлечения в другое, они оставались необходимыми друг другу людьми. В их сердцах было отгорожено место друг для друга, на которое никогда и ни при каких обстоятельствах не мог претендовать никто.
Ветреная, взбалмошная графиня испытывает, быть может, единственную постоянную потребность — писать Карлу: «Скажи мне, где живешь и кого любишь? Нану или другую? Целую тебя и верю, буду писать тебе часто, ибо для меня есть щастие с тобой беседовать хотя и пером».