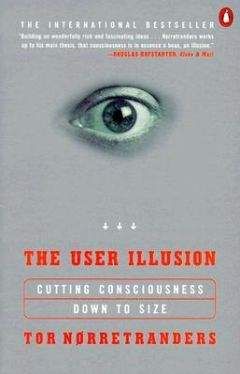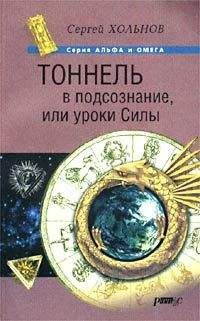Борис Ширяев - Неугасимая лампада
О ком говорят слова молитвы? Не о тех ли, кто беззвучно шепчет их?
Кто стоит здесь, в лесной храмине, у каменного креста на неостывшей крови?
Живущие или тени живших, ушедших в молчание, в тайну небытия? Без возврата в жизнь?
…Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с кровью и мясом. В памяти одно – свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое – над ним стоящее, общее для всех, неизменное, сверхличное: Россия, Русь, Великая, Могучая, Единая во множестве племен своих – ныне поверженная, кровоточащая, многострадальная.
– Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих! Отец Никодим почти шепчет слова молитв, но каждое слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души Первого среди сонма страстотерпцев распятой России, мучеников сущих и грядущих принять свой венец…
Отец Никодим, иерей в рубище и на одну лишь ночь вырванной из плена епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим разливы невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах.
– Николая, Алексея, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя, Христе, положивших…
– Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих… Отец Никодим кадит к древнему каменному кресту, триста лет простоявшему на могиле мучеников за русскую древнюю веру… их имен не знает никто.
– Имена же их Ты, Господи, веси!..
Ладан, дали, обступившие церковь-поляну полные тайны соловецкие ели. Они – стены храма. Горящее пламенем заката небо – его купол. Престол – могила мучеников.
Стены храма раздвигаются и уходят в безбрежье. Храм – вся Русь, Святая, Неистребимая, Вечная! Здесь, на соловецкой лесной Голгофе – алтарь этого храма.
– Иде же несть болезни и печали, но жизнь бесконечная!
Бесконечная? Повергающая, преодолевающая и побеждающая смерть?
В робко спускавшемся вечернем сумраке догорали огоньки самодельных свечей. Они гасли один за другим.
На потемневшем скорбном куполе неба ласково и смиренно засветилась первая звезда, Неугасимая Лампада перед вечным престолом Творца жизни.
В земляной келье призванного Богом схимника так же нежно и бледно теплился огонек его неугасимой лампады пред скорбным ликом Спаса. В его тихом сиянии сорок дней и сорок ночей, сменяясь непрерывной чередой, последние иноки умершей обители читали по старой, закапанной воском книге слова боговдохновенного поэта и царя, полные муки покаянные крики истомленного духа, ликующие напевы его веры в грядущее Преображение… Они приходили туда и позже – творить литии.
Двадцать два соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобою, Русь, в бесконечной жизни твоей… С тобой, Мученик-царь, принявший вины и грехи наши на душу свою!
– Вечная память!
Глава 30
Лампада теплится
Спустя несколько лет по выходе из Соловецкого концлагеря, я читал историю русской литературы в советских вузах. Тот, кто представляет себе эту работу хотя бы отдаленно напоминающей, не говорю уж о Московском Императорском университете даже пресловутой эпохи министерства Кассо, но и канувших в вечность времен Магницкого, горько ошибется.
Свободная человеческая мысль при Магницком была скована. И только. Но она не была подменена обязательной, преподанной лектору свыше ложью, целой системой извращений, ловких, детально-продуманных подтасовок, сложных, подчиненных единому плану построений.
Самое честное, что может делать советский лектор – четко и сухо излагать допущенные цензурой факты и относящиеся к ним положения советской марксистской критики, не крича порожденного социалистической подлостью ура и не раболепствуя перед фетишами гнуснейшего из времен.
О прочем – молчание.
Мысль студента не только замкнута, как это пытался, но не мог сделать Магницкий, она направлена по определенному пути. Сойти с него – значит, погибнуть почти наверняка. Немногие находят в себе силы для этого подвига.
* * *Однажды, когда я проходил по коридору института, меня догнал студент и молча пошел рядом, выжидая выхода из обычной во время перерыва толкучки. Так бывало часто, когда предвиделся внеочередной контроль райкома комсомола или спецотдела НКВД. В этих случаях студенты всегда старались предупредить меня брошенной на ходу фразой. Я ждал ее и теперь, но оказалось иное.
– Прочтите, когда у вас будет время, – сунул он мне толстую тетрадь.
Конечно, стихи. Это тоже бывало часто и являлось очень тяжелым дополнением к и без того трудной, напряженной, глубоко тягостной, полной компромиссов с совестью работе.
Читать в немногие свободные часы топорно и пошло рифмованные переложения статей «Правды» мало радости, а еще меньше ее в составлении пустых и столь же пошлых рецензий с советом учиться у Пушкина и Маяковского… Но принять надо. Иначе – обида, возможен и донос.
На этот раз дело обстояло лучше: стихи оказались довольно грамотным технически и глубоко искренним подражанием Лермонтову. Эпиграфом к ним стояла его строчка:
Я мало жил, я жил в плену…
Мятежная тоска Лермонтова, томление одиночества, порывы к неведомым далям, скорбные предчувствия, нежная грусть созерцания – все это было воспринято, прочувствовано автором глубоко, юношески пламенно, чутко, и не его вина в том, что мощный гений ушедшего века подчинил своим формам душу подсоветского юноши.
Я решил не писать пустых слов, а, выбрав подходящий момент, поговорить с юным поэтом. Он был хорошим студентом, явно стремился не к получению диплома, а к знаниям, прочитывал не только требуемое программой, но старался, поскольку это было возможно, взять шире, глубже, даже прорваться в запретное.
Удобный момент подвернулся довольно скоро. Мы случайно встретились в библиотеке и остались одни в ее задней комнате. Заговорили о Лермонтове и вдруг…
– Поймите меня, Борис Николаевич, не советский я человек, не советский, – схватил меня за руку студент, – тяжело мне, ненавижу я все, дышать нечем и… сам не знаю… чего хочу. Жить хочу!
Что мог я тогда ответить крику, воплю этой души, рвавшейся из плена? Что мог я предложить ей? Фиговый листок компромисса? Юность не приняла бы его. Мудрость углубления в себя, отрешения от окружающей гнуси? Восемнадцатилетнему, по праву своих сил рвущемуся в жизнь? Да и мог ли я говорить прямо, откровенно, без страха за себя и за него?
Самым честным было сказать:
– Никогда и никому не говорите того, что сказали сейчас.
– Да ведь я вам только…
– И мне тоже.
Студент поднял на меня свои лучистые, голубые, как васильки, широко открытые глаза, потом опустил их на тетрадь.