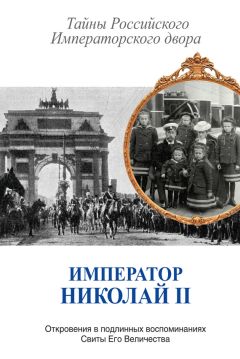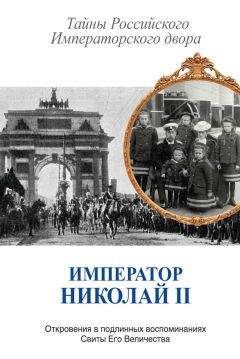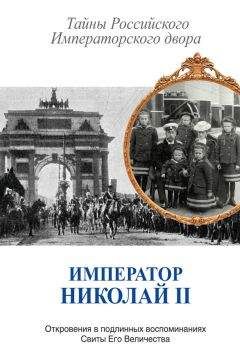Юлия Данзас. От императорского двора до красной каторги - Нике Мишель
Я
. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem [62]…Не я
. Отличный наркоз! Скоро уснешь, если повторить триста раз. Желаю тебе получить прошлуюpax
[63] – до следующего моего прихода… Кстати, последний совет на прощание: не кусай так руки. Скоро будет тепло, придется снять напульсники [64], и тогда уж нельзя иметь вечно искусанные в кровь руки…Я
. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis!..Не я
. Ну, ладно… До скорого свидания!..Я
. …научи мя творити волю Твою, яко в руце Твои предаю живот и дух мой, разум и волю мою, да не живу ктому аз, но Сам, Господи, да живет во мне, и твориши мною еже хощеши, и устне мои отверзеши, во еже возносити смиренное Ти благодарение и хвалу на всякое время даже до часа смертного моего, внегда благоволиши свободити от бремени жизни сея и соединити мя с Тобою навеки [65]…Долгий перерыв… Я сама отдала эту тетрадь, чтобы избавиться от искушения записывать в нее то, что в сущности никогда не надо высказывать или хотя бы формулировать, даже мысленно, а тем более письменно. Но случай опять возвращает ее в мои руки, и я поддаюсь искушению заносить сюда иногда отдельные мысли. Так теснятся иногда эти мысли, так мучительна потребность в них разобраться, а времени и возможности работать над ними нет – так хотя бы заносить их сюда, без порядка и связи, как проносятся они в голове.
Как страшны бывают минуты восторженного экстаза, когда вдруг мысль расширяется, напрягается почти до физической боли – затем мучительное напряжение сменяется дивным сознанием парения над безбрежным горизонтом, точно взлет на вершину, откуда все видно, – и тут наступает страшное, жуткое сознание, что нет сил вместить все раскрывшееся перед мысленным взором… Тайна страдания, тайна мирового зла, тайна зарождения жизни, тайна душевной сущности – все становится ясным. Впрочем, нет, не ясным, но чувствуется, что мысль могла бы это охватить, если б сделать еще одно усилие – только сделать его нельзя, потому что силы замирают в жутком чувстве невозможности вместить…
Это не выразить словами… Все это – Неизреченное [66]…
Закон любви – яснейший, в то же время жуткий, невыполнимый закон. Человечество нарочно опошлило и осквернило слово «любовь», применив его к низменным потребностям плоти, чтобы заглушить призыв к любви небесной, к любви, требующей не физиологического общения с другим существом, а растворения во всем сущем, самозабвения в радости абсолютного самопожертвования… Как это чуждо ныне искаженной грехом человеческой природе!.. Только в проблесках восторженного созерцания уловляется иногда, на одно жуткое мгновение, истинный смысл мировой скорби как последствия греха против любви – ибо весь этот жестокий закон жизни, созидаемой на взаимном пожирании, на взаимном уничтожении – закон поедания слабейшего сильнейшим на всех ступенях бытия, – есть лишь искажение основного закона творческой любви, согласно которому все живущее должно было находить радостный смысл своего существования в самопожертвовании, и в такой жертве была радость высшая, нам неведомая, и весь мир был гимном радости… пока не случилось того, что все исковеркало, все изменило и водворило ужас страдания во всякой жертве, сделав ее неизбежной и бессмысленной вместо радости собственного удовлетворения…
И этого не выразить словами… Такое озарение – полет над бездной, а бездна всегда безмолвна… Все это тоже – Неизреченное.
Порою мне невыносимо тяжко сознание, что я не могу любить все живущее тою светлою, радостною любовью, которой горело сердце св. Франциска Ассизского ко всякой твари Божьей. Сила этой любви мне понятна, но радость ее мне чужда, потому что слишком громко раздаются для моего духовного слуха стоны всего живущего. «Вся тварь совоздыхает вместе с нами» [67]. Я всегда страстно любила животных, но именно потому, что так люблю их, не могу на них радоваться – слишком сильно, слишком болезненно чувствую их страданье; для меня мировая скорбь ясна во взгляде каждой голодной собаки, каждой забитой лошади, каждого утопающего котенка или замерзающей птицы. О да, я понимаю, что св. Франциск мог каждое Божье создание называть братом или сестрою, мог обращаться с ласковой речью к сестрам – веселым пташкам или даже к безмолвным рыбам. Но ведь над каждой такой пташкой реет «брат»-коршун, и они не могут его славить, а пугливо жмутся прочь от него, хотя и он красив, и тоже по-своему славит своего Творца. И вот эта трагедия страха, отравляющего весь животный мир, этот бессознательный ужас перед беспричинным страданием – вот что яснее всего для меня и острой болью врезается в мою страстную любовь ко всякому зверью. Среди всех ужасов, виданных на фронте во время мировой бойни, мне болезненнее всего запомнились искаженные мучительным упреком глаза лошадей, тонувших в трясинах; мне самой пришлось не раз их пристреливать, чтобы прекратить их страдания, – и этих моментов я забыть не могу никогда. И когда я ласкаю какого-нибудь грациозного шалуна-жеребенка или тупомордого кроткого теленка или прижимаю к себе славного, смешного, неуклюжего щенка, который едва еще научился ходить, несуразно расставляя лапы, но уже тянется с любовью и доверием к человеку – мне иногда хочется заплакать над ними, так болезненно сжимается сердце при мысли об ожидающих их в жизни беспричинных мýках.
Неужели мне никогда не дано будет душевного покоя перед этой страшной загадкой мировой скорби? Ее смысл иногда понятен, в минуты особого озарения. Но как невыносимо тяжко сознанию ее бремя! С какой силой несется вопль сердца, просящего себе страдания, чтобы облегчить чем-нибудь ужас общей скорби……
Ave Maria, gratia plena [68]… Почему именно с этою молитвою связано что-то неизъяснимое, восторженное, чего не находишь ни в одной такой же молитве на другом языке? Какая особенная мистическая сила в этих звуках! Не потому ли, что с этою молитвою на устах шли в бой мои предки, с нею они умирали, за нее отдавали жизнь. Она освящена таинственной властной силою пролитой крови, такой же крови, как та, что течет в моих жилах; оттого и жуткая власть надо мною этих простых, кротких, сладостно-тихих слов: Ave Maria, gratia plena, benedicta Tu in mulieribus [69]…
Мощь и властная красота католической Церкви в том, что она не забыла своей миссии быть «победой, победившей мир» [70]. Она – воинствующая Церковь и высоко ценит все воинские доблести: недаром у нее канонизация святых начинается с признания «геройства» их заслуг. Да, потому она и родит героев святости, что она никогда не увлеклась ложным идеалом сантиментальности, слащавого добродушия и «непротивления» [71], подорвавшего силы Восточной Церкви. Нет, у нее «буйство проповеди» [72] не отступает ни перед какою борьбою, отбросив конфузливость и ложный стыд, бросая вызов всему миру во имя надмирных идеалов, ради которых стоит жить и умирать. Здесь не робкое стадо жмется вокруг оробевшего пастыря – нет, гордо развеваются знамена с именем Иисусовым, и стройно равняются вокруг них ряды militiae Christi. Блаженны кроткие… Но «кроткий да будет храбр» [73], как сказано в Писании (Иоиль).