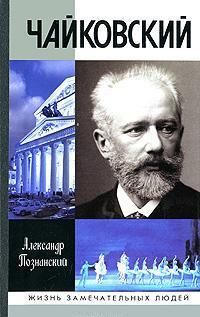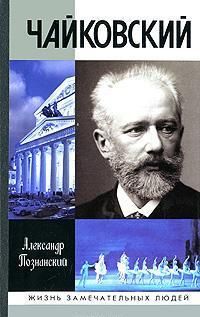Александр Познанский - Чайковский
Во внешности и манерах, а отчасти и в образе жизни, Кондратьев, в отличие от Бочечкарова, казалось, был далек от соответствующего стереотипа. Сохранившиеся фотографии демонстрируют мужчину, лишенного каких бы то ни было признаков женственности — широкоплечего, плотного сложения, с квадратным лицом и тяжелым подбородком. Более того, он был женат и имел дочь. Модест Ильич обращает внимание на странность этой дружбы: «На первый взгляд не было ничего общего между скромным профессором консерватории, поглощенным интересами своего искусства, не светским, не общительным и работающим с утра до ночи, и этим архиизящным денди, с утонченно-аристократическими приемами обращения, светским болтуном, раболепно следящим за последним криком моды». И однако: «В действительности же они сошлись не только как приятели, но как друзья, связанные почти братскою любовью».
Нам же представляется, что их отношения были гораздо сложнее, чем это дает понять Модест Ильич, «…мало знал я людей, которые с таким упорством, с таким постоянством были “влюблены” в жизнь, которые бы умели ловко скользить мимо тяжелых сторон бытия и упрямо во всем, везде видеть одно радостное и приятное, — пишет он о Кондратьеве. — С утра до ночи, с детства до старости, всюду, в деревне, в столичной суете, в чужих странах, в уездном городишке, даже на смертном одре… он умел находить возможность любоваться жизнью, верить в незыблемость отрадных сторон ее и смотреть на зло, горе, муки — как на нечто преходящее, непременно долженствующее исчезнуть и уступить место чему-то вечно радостному и приятному».
Цель Модеста Ильича ясна: на протяжении всего своего сочинения он подчеркивает жизнеутверждающий аспект личности Чайковского. В этой схеме и дружба с Кондратьевым освещается с известной предвзятостью: биографу важно доказать, что брату главным образом импонировала именно эта сторона его личности: «…для такого неисправимого оптимиста, как Петр Ильич, для такой чуткой отзывчивости к страданиям ближнего, какая была у него, — иметь перед глазами постоянное подтверждение того, что жизнь прекрасна, чувствовать себя в обществе счастливых, довольных, по возможности, быть причиной их довольства и счастья — составляло потребность для покоя и полного равновесия, при которых он только и мог сам быть счастлив и доволен».
Из писем и дневников складывается, однако, другая картина. Она ставит под сомнение психологическую мотивировку, заявленную Модестом, по крайней мере, в смысле ее исчерпанности, первостепенности и акцентов. Характеризуя свои отношения с Кондратьевым в спокойную минуту, Чайковский пишет Модесту 12 марта 1875 года: «…хоть я его и люблю, но уж, конечно, в десять раз меньше, чем тебя и Анатолия, а с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что и он любит меня по-своему, т. е. настолько, насколько я не нарушаю его благосостояния, которое для него превыше всего на свете». В этом же направлении следует скорректировать и утверждение дочери Кондратьева — Надежды Николаевны: «А для отца не было на свете человека более любимого и лучшего друга, чем Петр Ильич». Оборотной стороной жизнерадостности Кондратьева были припадки ипохондрии, вызванные пустяками: «…он, как избалованный ребенок, боялся всякой царапины, плакал, жаловался на них, ненавидел всеми силами души, иногда отчаивался», и это не могло не нервировать Петра Ильича, тем более что капризность сочеталась с непостоянством. «Кондратьев, — пишет композитор Модесту 28 февраля 1880 года из Парижа, — жаловался на тоску, объявил, что каж[дый] день плачет в три ручья, но из дальнейших вопросов оказалось, что живет припеваючи, имеет кучу знакомых, ежедневно бывает в театре и, словом, по-видимому, нимало не скучает».
Вообще, из текстов самого Чайковского вырисовываются достаточно бурные отношения между ними. По всей видимости, Кондратьев был избалованным и эгоистическим самодуром, очень нелегким в общежитии, особенно для деликатной натуры композитора. Даже в переписке с фон Мекк, где Петр Ильич проявлял особую осторожность в суждениях о третьих лицах, он делится недовольством по поводу реакции Кондратьева на свою разворачивавшуюся и тяжело переживаемую матримониальную драму: «У меня есть один друг, некто Кондратьев, человек очень милый, приятный в обращении, но страдающий одним недостатком — эгоизмом. <…> Он человек очень состоятельный, совершенно свободный и готовый, по его словам, на всякие жертвы для друга. Я был убежден, что он явится ко мне на помощь. <…> В письме этом (полученном уже после бегства Чайковского за границу. — А. П.) мой друг очень жалеет меня и в конце пишет: “Молись, друг мой, молись. Бог поможет тебе выйти из этого положения!” Дешево и сердито отделался». И далее следует нелестное для Кондратьева сравнение с гротескным персонажем романа Теккерея (письмо от 5 декабря 1877 года). Любопытно, что фон Мекк не забыла эту жалобу и через два года припомнила, назвав поведение Кондратьева «по меньшей мере бабоватым» (письмо от 24 июня 1879 года), с чем Чайковский согласился. В феврале 1881 года он пишет Модесту из Рима о Кондратьеве: «…мне приятно, и даже для меня сущее благодеяние было найти здесь Ник[олая] Дмитриевича] и милейшего Сашу» (Легошина, слугу Кондратьева. — А. П.), после чего, впрочем, следует характерная оговорка: «…но боюсь, как бы не наступило то быстрое охлаждение, которое всегда у нас с ним случается из-за пустяка; а уж потом вернуться к искреннему тону бывает трудно». Или в дневнике после отъезда семьи Кондратьевых из Майданова, где они занимали дачу по соседству с Чайковским: «Чувствую пустоту и что-то печальное по случаю отсутствия Николая] Дм[итриевича]» (запись от 23 июля 1886 года); «испытываю если не тоску, то очень живое чувство недоставания Кондратьевых» (25 июля 1886 года). В том же дневнике, несколько ранее: «Что за загадка этот человек. И добр, и в то же время злить есть для него наслаждение» (11 июля 1886 года). Это, пожалуй, самая четкая формулировка противоречивых чувств, которые Чайковский должен был к нему испытывать.
И, однако, окончательное суждение, во время предсмертной болезни друга, категорически выносится в его пользу. «Боже мой, как у меня сердце болит за Кондратьева. По страху и ужасу, который я испытываю при мысли, что он умрет, я вижу, что скверный исход его болезни произведет на меня ужасное действие. Судьба так сложилась, что Николай] Дмитриевич] для нас с тобой больше чем приятель и как бы самый близкий родной», — пишет он Модесту 10 апреля 1887 года. Не содержится ли в этой последней, довольно странной фразе намек на существенное обстоятельство, которое определило во многих отношениях их дружбу и о котором умолчал осторожный биограф, — а именно сходство сексуальных пристрастий всех троих — помещика, композитора и его брата?